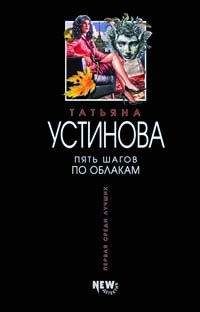Подкованный в первом классе Василий сообщил бородачу, что бога нет, и тот вдруг захохотал добрым, веселым смехом.
— Нету, а защитить просишь! Это как понимать?
Василий не знал, как это следует понимать.
— Эх ты! — сказал бородач, выплеснул в кусты бузины ведро, оправил свое платье и раскатал рукава. В часовенке было влажно и чисто, оказывается, бородач мыл там пол.
Совершенно успокоившийся Василий угостил его малиной, и они долго сидели в сумерках на крыльце, ели малину и слушали, как в деревьях шумит дождь и гроза уходит.
— Ну вот так, — сказал бородач напоследок. — Ты еще пока маленький, а когда вырастешь и будешь у господа защиты просить, всегда прибавляй, что ты грешный. Все мы грешны, потому что люди, а не ангелы, ничего в этом такого нет. Но господь должен знать, что ты это понимаешь.
Так Василий Артемьев и научил Мелиссу — когда просишь у господа защиты, скажи ему, что ты понимаешь, что не ангел с крыльями, а просто человек, и, следовательно, грешишь. И тогда Он тебя услышит.
Сейчас она изо всех сил просила защиты, и говорила Ему, что она просто человек, не ангел с крыльями, и потому особенно нуждается в Его защите!..
Свечи на грубо сколоченных козлах горели и потрескивали — в тишине их треск казался особенно зловещим.
Пересилив себя, не переставая молиться и думать о Василии — странно, но для нее это было как будто одно и то же, — она заставила себя подойти к козлам и посмотреть.
Свечей было много, два десятка, а то и больше, и несколько восковых, церковных. Поняв это, Мелисса затряслась, как в ознобе, и даже отошла ненадолго, чтобы успокоиться.
Ее враг был здесь, зажигал свечи, он принес даже несколько церковных!.. Господи, спаси, сохрани и помилуй меня, грешную!
С церковных свечей капал воск, длинные капли, похожие на слезы, и она вдруг поняла, чем у нее были замазаны губы и глаза — воском. Пальцы, которыми она терла веки, были чуть маслянистые и пахли церковью.
Какая-то картинка, бумажный квадратик, была прислонена к самой длинной и толстой свече, у серой стены. Мелисса нагнулась, чтобы посмотреть, и…
Это была ее собственная фотография.
Она закрыла глаза, постояла и снова открыла.
Рот затопило невесть откуда взявшейся кислой слюной. Ее было так много, что Мелисса еле успевала глотать и, держась рукой за влажную сырость стены, стала отступать, отступать в угол, и там, в углу, ее вырвало.
Она долго дышала открытым ртом, заставляя себя не оглядываться и не смотреть туда.
Тошнота все не проходила, желудок содрогался и корчился, и Мелисса держалась за живот обеими руками, уговаривая себя не трястись, чтобы рвота не затопила ее совсем.
А потом оглянулась.
Это был какой-то дьявольский алтарь, вот что это такое было. И она поняла это сразу. Именно поэтому там горели свечи и именно поэтому там была ее фотография, прислоненная к самой толстой и высокой церковной свече.
Это специально оборудованное место для жертвоприношений, а жертва я. Как жертвенное животное, меня опоили чем-то ужасным, таким, от чего я заснула так, как будто умерла.
Лучше бы я умерла на самом деле!..
Прижимаясь спиной к стене, ведя по ней ладонями, она двинулась в обратную сторону, к «алтарю», на котором все горели свечи, и вдруг одна догорела, затрещала, упала и покатилась.
Мелисса зажмурилась.
Когда свечи догорят, он придет, почему-то решила она. Он придет, чтобы совершить надо мной что-то ужасное, такое, что даже представить себе невозможно.
Никто не похищал ее из-за денег. Ее похитил какой-то ненормальный, и с его извращенным сознанием Мелиссе теперь предстоит бороться.
Господи, спаси, сохрани и помилуй меня, грешную!..
Тяжесть в голове проходила. Должно быть, от страха, отчаяния и адреналина действие препарата, который тот подмешал в воду, закончилось.
— Мне нужно выбираться отсюда, — вслух сказала себе Мелисса. — Иначе я тут пропаду, чего доброго. Где здесь выход? Ведь если он сюда вошел, значит, выход есть! Где он?..
Ведя ладонями по стене, она пошла направо от грубо сколоченных козел, на которых горели свечи. Стена была абсолютно гладкой, и было совершенно ясно, что в ней нет никаких отверстий. Она была гладкой, заштукатуренной, и когда Мелисса постучала по ней, звук получился глухой, как в вату. Должно быть, стена была еще и очень толстой.
Но ведь выход должен быть!..
Она примерилась и снова стукнулась головой о стену, виском, так, чтобы стало больнее, охнула, потому что череп словно просверлило, и только тут сообразила посмотреть наверх.
В потолке был лаз.
Деревянная крышка, как ремнями, перехваченная железной сбруей.
До потолка высоко. Не достать. Закинув голову, она потянулась и не достала.
Тихо, тихо, приказала она себе. Без паники.
Лаз есть, и это уже хорошо. Значит, я не в темнице доктора Зло из кинофильма про Джеймса Бонда. Или из какого-то другого кинофильма.
Если мне не достать, как же спускался тот, кто соорудил… алтарь? Прыгал? Это маловероятно, у него были свечи и все такое. Как он тогда спускался? Хотя… на поверхности у него вполне могла быть лестница и, скорее всего, есть. Он открывал лаз, спускал лестницу и осторожно слезал по ней, стараясь не упасть.
Мелисса быстро и крепко зажмурилась, чтобы не представлять себе, как именно он спускался вниз, а она спала!.. Она ничего не чувствовала, не слышала, а он мазал ей глаза и губы свечным церковным воском и ставил ее фотографию на алтарь!
У меня нет лестницы. Но у меня есть кровать! А на ней есть металлическая сетка!
В мгновение ока она подскочила к кровати, навалилась на спинку и стала толкать. Кровать ехала неохотно, скребла по цементному полу, стонала и скрипела, но Мелисса подтащила ее под лаз, взобралась и двумя руками надавила на доски.
Господи, спаси, сохрани и помилуй меня, грешную!..
Люк был хлипкий и, похоже, трухлявый, потому что за шиворот ей сразу посыпался какой-то мусор, и Мелисса, как испуганная кошка, присела, пережидая, когда он перестанет сыпаться.
А что, если тот наверху?.. Если он услышит, как она скребется, и все поймет?! Тогда он придет и убьет ее!
Впрочем, если убьет, это не самое страшное. Страшно, если станет делать с ней что-то такое, для чего ему и нужен его дьявольский алтарь!
Труха все продолжала сыпаться, бесшумно слетать на пол. Мелисса следила за ней глазами.
«Он все равно меня убьет — сейчас или потом. Он убьет меня, и я даже не сумею сказать Ваське, как я его люблю и как пусто жила без него. Мы поссорились, и теперь он думает, что я вздорная баба и больше не люблю его, и я не могу умереть, пока не скажу ему о том, что самое лучшее в моей жизни, самое надежное, верное, славное, все самое дорогое, кроме моих книг, пришло ко мне вместе с ним. До него был только Герман и ужас, который он сделал со мной. Там тоже была ловушка, там меня тоже пытали. Там не было алтаря, но пытка была самая настоящая, и после той пытки я больше не могла жить! Я стала жить, когда появился Василий и объяснил мне, что все хорошо! Что есть я, он и что любовь — это что-то очень похожее на воскресенье в мамином доме, где пахнет плюшками, чистыми полами и крепким чаем, где ничего не страшно, где есть кому рассказать обо всем!.. Где не надо бояться выглядеть „не так“, „делать лицо“ и „держать спину“. Где можно валяться и дрыгать ногами, от радости или от горя, и тебя все поймут, простят и погладят по голове. Где самая вкусная еда и самая удобная постель, где крепостные стены отгораживают тебя от зловещего и сложного мира и добрые стражники никогда не допустят к тебе врагов или плохих людей. Я должна сказать ему, что люблю его так, а для этого мне нужно выбраться отсюда. Чего бы мне это ни стоило!»
Может, даже и хорошо, что он услышит. Может быть, мне удастся ударить его, оглушить на время, и у меня будет шанс. Пусть только один.
Господи, спаси, сохрани и помилуй меня, грешную!..
Мелисса распрямилась и изо всех сил ударила в доски. Они подпрыгнули, посыпалась труха, что-то задребезжало железным дребезгом.
Если с той стороны люк закрыт на металлическую щеколду, мне не справиться.
Мелисса Синеокова писала романы и потому обладала отлично развитым воображением. Она моментально представила себе эту щеколду, заржавевшую, прочную, глухо сидящую в пазах.
Нет, нет, нет!..
Она ударила еще раз, зажмурилась, потому что труха сыпалась теперь не переставая и попадала в глаза, и стала молотить изо всех сил.
Раз, раз и еще, еще, еще!..
Кажется, она в кровь разбила кулак и успела мельком подумать, что теперь вся работа встанет, потому что печатать с разбитой рукой невозможно!
В прошлом году они с Васькой катались в Австрии на лыжах. Там, в Австрии, была сказочная деревушка, как с рождественской открытки, маленькая, заснеженная, пряничная. Хозяин отеля, пузатый и громогласный, в клетчатом фартуке, варил по вечерам глинт вейн и разливал его в большие кружки. Накатавшись до дрожи в ногах, они сидели у камина, пили глинтвейн и смотрели на огонь, и не было в жизни Мелиссы Синеоковой ничего лучше, чем сидеть рядом с Васькой, привалившись плечом к знакомо пахнущему свитеру, попивать глинтвейн и слушать, как в бильярдной стучат шары и что-то кричат немцы, такие же пузатые и громогласные, как хозяин. Иногда она засыпала в кресле, и Васька ее потом дразнил, говорил, что она храпит. Почему-то это называлось «кошкин храп», и она не могла понять, почему кошкин! Он никогда не называл ее кошкой! На горе она однажды упала, вывихнула запястье и долго скрывала это от издателя, который пришел бы в ужас от того, что она опять задержит рукопись!..