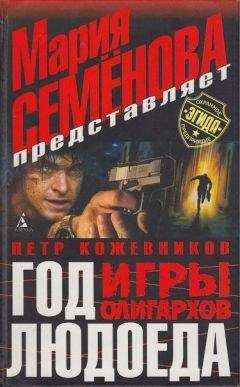В голове Нетакова-младшего повис невыносимый вопрос, который и прежде уже терзал мальчика, когда он слышал про чью-то смерть: что это такое? Куда вдруг выселяется тот, кто совсем недавно обитал в этом, например, теле? Где сейчас его мать?
Уголки губ Дениса задрожали и поползли вниз. Горло перемкнуло, будто его захлестнули петлей. Все вокруг затуманилось. Что с глазом? Да это — слезы. Он — плачет.
— Да уведите же отсюда несовершеннолетнего! — раздался все тот же женский голос.
— Дениска, слышь. Ну посмотрел, и пойдем, — послышался голос Рамиза. — Тут врачи разберутся. А тебе потом доложат что к чему.
— Одолжи волыну, я Трошку грохну, — прошептал Нетаков-младший. — Скажешь, что я его у тебя сдернул, а? Дядя Рамиз, выручи разок!
— Эх, пацан…
* * *
Оставшись вдвоем с трупом Шаманки, Ленин и Денис решили водрузить тело на многотерпимый круглый стол, за которым и ели, и работали, а Нетаков-младший еще и готовил здесь уроки. Когда он был маленьким, то очень любил рассматривать и трогать грибы, нарисованные на клеенке, наброшенной на стол. Кроме картинок мальчик изучал следы от утюга, сигарет, прорези от ножей. Денис приближал лицо и нюхал клеенку — тревожный запах напоминал больницу. Потом клеенки не стало, и на стол время от времени стали стелить газеты или случайную оберточную бумагу. Обычно же неровная от повреждений поверхность оставалась непокрытой. Из-за ее беззащитности на ней постоянно увеличивалось и без того немалое количество царапин и выбоин от инструментов Митрофана, изготавливающего на продажу домашние тапочки, и черных кружков от сигарет.
Фанеровка стола имела бесчисленные трещинки, а по краям не везде плотно прилегала к деревянной основе, и Денису нравилось оттягивать лучики шпона, а иногда их даже отламывать, рискуя занозить пальцы.
В тот вечер Трошка-Ленин, как всегда, был пьяным. Хмельное состояние отца давно стало для Нетакова-младшего привычным и чем-то даже по-своему необходимым. От Ленина всегда пахло спиртным — если не бормотухой, то аптекой. Будучи трезвым, Трошка становился злым, вспыльчивым, просто бешеным. Если мальчик и помнил отца трезвым, то эти дни, как правило, оказывались связаны со скандалами, драками, избиениями матери и Дениса. Когда Ленину не удавалось ничего в себя влить в течение дня, он становился ненормальным, и Нетаков-младший с Пелагеей старались от беды незаметно исчезнуть из дома до тех пор, пока Митрофан не изыщет возможности захмелеть и стать менее опасным.
Нетаков-старший просунул руки Шаманке под мышки, а сыну резкими квакающими звуками велел ухватиться за ноги. Тело оказалось тяжелым.
Когда отец и сын управились с водружением Шаманки на стол, то сели на диван покурить. Ленин сперва сложил руки покойницы у нее на животе и только потом сел рядом с сыном, который уже прикурил две сигареты и теперь затягивался сразу от обеих. Нетаков-старший взял свою сигарету, вставил ее в мундштучок и упоенно затянулся, прикрыв веки.
Внезапно Шаманка издала звук, похожий на вздох, а руки ее, соскользнув вниз, свесились со стола. Отец с сыном неуверенно наблюдали за самовольством покойницы. Митрофан еще раз затянулся, приподнялся с дивана не спеша, словно еще не решив наверняка, стоит ли это делать, подошел к столу. Здесь он вновь придал рукам Пелагеи смиренное положение.
Утром к Нетаковым постучали. Это явились милиционеры за Лениным. Когда отца увели, пришли другие люди, а с ними участковый: они заперли и опечатали квартиру, а Дениса отвели в детский интернат. Те, кто жил там с малолетства, стали его сразу дразнить и избивать: он не выдержал и сбежал. Вернувшись домой, Нетаков-младший выдавил стекло в окне, выходящем во двор, и вот уже два месяца как тайком прокрадывался по ночам к себе и, поставив стекло на место, затаивался в квартире до утра, стараясь не зажигать свет и не шуметь, чтобы его не вычислили менты или соседи.
Глава 24. Не уходи, мое виденье…
Когда врач, зашивавший Павлу брюшину, сказал Соне, что теперь проблемы ее сына заключаются только в скорости заживления швов, она поняла, что может покинуть больницу. Наступало утро. На Большом проспекте ее новый друг остановил потрепанную иномарку и довез Морошкину до ее дома. Соне хотелось побыть одной, и она этого ничуть не скрывала.
— Я чувствую себя виноватой перед Павлушей. Мать пирует, а сына бандиты режут. — Морошкина откинулась на сиденье и прикрыла ладонью глаза. — Сколько раз я ему говорила: «Сынок, давай я сама пойду к твоему начальнику и попрошу перевести тебя на более спокойную точку. Я ведь не говорю тебе: не работай! Обязательно работай, но будь осторожней». Да нет, ну о чем тут рассуждать, если я не смогла его уберечь!
— Не надо так сгущать краски. — Лев понимающе улыбнулся. — Впрочем, это ваше дело. До свидания.
Очутившись в квартире, Морошкина сообразила, что ей едва хватит времени на то, чтобы привести себя в относительный порядок и домчаться до работы.
* * *
Войдя в отделение милиции, Софья услышала характерный звонок своего аппарата. Кабинет находился здесь же, на первом этаже, вторая дверь налево по коридору, и она, отпирая немудреный, но изношенный и потому непослушный замок, очень рассчитывала успеть взять трубку: вдруг это он, так и не расшифрованный ею Лев.
— Алло! — крикнула Морошкина, едва сняв трубку и еще не донеся ее до лица. — Алло, кто это?
— Тетя Соня, это я, Саша Кумиров! У нас тут чепе вышло.
Инспектор не сразу, но сообразила, что нервный, взволнованный голос принадлежит сыну ее могущественного одноклассника, с которым она рассталась несколько часов назад.
— Да, Сашенька! Что у тебя? Говори как есть, а там уже вместе подумаем.
— Мне ваш телефон Ваня Ремнев дал. Я сразу не посмотрел, а когда увидел, вспомнил, что это ваш рабочий номер. Думаю, надо позвонить, раз он меня попросил… — Саша запнулся, очевидно соображая, как лучше представить остальные обстоятельства дела. — Мы вчера пошли в ресторан «Косатка», а там с бандитами не поладили, то есть это они к нам пристали. Ну, в общем, Ваня им стал угрожать, и они его в плен взяли и за него выкуп в пять тысяч долларов назначили. Короче, я отцу все это рассказал, а он сказал, что ничего для Ремнева делать не будет, а я не знаю, где такие деньги взять, к тому же он меня выслал из города, и я отсюда ничего не могу сделать.
— А у кого он в плену? Скажи мне, какая группировка? Назови какие-нибудь имена, чтобы я знала, где его искать и с кем разговаривать. — Морошкина взяла шариковую ручку и приготовилась записывать.
— Он у суматохинцев. Они сказали, что у нас времени — сутки, а потом они его начнут мучить. — Кумиров опять запнулся, видимо рассуждая, правильно ли он сделал, что позвонил капитану милиции, и что теперь из всего этого может получиться. — Там еще девушка была, Наташа Бросова… Я не знаю, что они с ней сделают, но если будут мучить — я их всех убью, когда вернусь! Всех убью: и отца, и охранников…
Раздались гудки, очевидно, разговор прервали охранники, вовсе не желающие погибать от руки наследника своего хозяина. Морошкина опустила трубку и подождала возобновления связи. Через пару минут ей стало ясно, что у юноши изъяли средство связи.
Соня сразу оценила ситуацию как очень сложную и, может быть (зачем себя обманывать?), даже безвыходную. Она-то уж знала, кто такие эти суматохинцы и сколь безнаказанно им сходят с рук куда более серьезные преступления, чем захват мальчишки. И что ей теперь делать? Обращаться к своему руководству? А как объяснить ее связь с трудновоспитуемым, да и кто, серьезно говоря, возьмется за это дело? Может быть, позвонить Плещею? Так он ведь тоже весь из себя такой законопослушный, что на одно обсуждение правомочности необходимых действий у него уйдет больше времени, чем бандиты отпустили на добывание денег для выкупа. Вооружиться своим табельным оружием? А если взять да позвонить столь доброжелательному к ней Льву: она ведь действительно, пусть и чисто по-бабски, чувствует его странную силу — такой, пожалуй, ни перед чем не остановится. Наверное, она сделает так: сейчас позвонит Льву, а позже — Сергею. Эх, была не была!
Соня достала записную книжку, раскрыла ее на странице с буквой «Л» и впервые набрала записанный прошедшей ночью номер. После семи гудков мембрана воспроизвела знакомый ей голос, который сообщил, что его хозяин в данный момент не может подойти к аппарату. Морошкина спешно изложила ночную историю и бережно возвратила трубку на расколотый ведомственный аппарат, перетянутый крест-накрест широким скотчем.
Прикосновение — как роза для альбома.
Не более. Случайный дар храня,
Я снова жду. Уста немы. Истома.
Я жду огня.
Морошкина еще раз вгляделась в мятый тетрадный листок в клетку и положила его в раскрытую картонную папку, где друг из-под друга выглядывали похожие листки. Она погладила обеими руками свою коллекцию и, словно желая быть услышанной, обратилась в пространство: