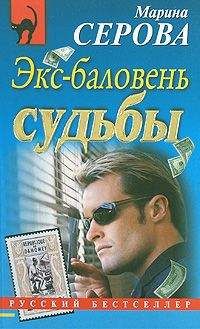Я слушал — и не верил своим ушам. Вот чего стоила жизнь моей сестры — марки! Как в тумане я шел по коридору и не знал, что делать. И этот человек говорил мне о бескорыстии и смирении! Об истине! И не только мне! Скольким людям удавалось ему задурить голову! «Свет истинной веры, братство, благодать…» Как только язык у него поворачивался!
В тот раз я ушел с собрания, и на следующий день Разумов стал расспрашивать, что случилось. Я сказал, что плохо себя чувствовал. Он спросил, как продвигается мое исследование, снова говорил о героизме первых христиан, о том, что в те времена свет истинной веры еще не был омрачен сатанинскими плевелами, о том, что на нас, членах общества, лежит ответственная миссия — нести в мир проповедь истинного христианства. Закончил он, как обычно, словами о бескорыстии и о том, что каждый, кто имеет счастье принадлежать к такой организации, как наша, должен забыть о своих личных интересах и думать только о том, какой вклад он может внести в общее дело.
Со мной чуть было не случилась истерика. То есть она и случилась, но Разумов этого не понял. Меня вдруг стали одолевать неудержимые приступы смеха. В голове один за другим рождались дурацкие вопросы: типа того, что, покупая за бешеные деньги какую-то марку и намереваясь ее перепродать, профессор, конечно же, думал только о том, как бы внести вклад в общее дело; или — достаточным ли вкладом в общее дело будет жизнь моей сестры… это почему-то казалось мне очень смешным… Но именно благодаря истерическим приступам смеха, не дававшим мне говорить, я так и не задал ему ни одного вопроса.
Следующие несколько дней я ходил как пьяный. Привычные слова, которые изо дня в день я слышал от своих наставников, воспринимались теперь совсем по-другому, и я все яснее видел, что главная и единственная цель их — заставить людей отдать свои деньги. Не для каких-то иллюзорных нужд братства, а для того, чтобы они еще и еще раз смогли наполнить свои бездонные карманы!
Вскоре я имел случай убедиться, что подслушанный мной разговор — не пустые слова. На очередном собрании было объявлено о сборе пожертвований на публикацию буклета. Разглагольствуя о проповеднической миссии общества и о том, каким важным в этой связи является регулярное снабжение существующих и потенциальных прихожан разъяснительными материалами, Разумов и Зильберг наперебой призывали делать взносы. Но мне-то было известно, что настоящая цель этих сборов — марка, «очень дорогой экземпляр».
Я не выдержал и рассказал об этом друзьям. И что вы думаете? Ни один не поверил мне! Вот до чего затуманены были наши головы! Тогда я предложил еще раз подслушать разговор в кабинете. Как раз в этот день в Зале появилась новая партия прихожан, и, проведя с ними вдохновляющую беседу об истинной вере, им тоже предложили поучаствовать в финансировании. Не было ни одного, кто бы не сдал деньги, и я подозревал (не без оснований), что сегодня в кабинете будет происходить дележ.
Но мои товарищи заартачились. Не говоря уже о том, что подобный поступок был вопиющим нарушением дисциплины, их останавливала еще и безоговорочная вера в своих наставников, которую до недавнего времени испытывал и я. Но, в конце концов, мне удалось уговорить одного из них, и вдвоем мы прокрались к двери кабинета.
На этот раз она была плотно прикрыта, но, приложив ухо к замочной скважине, можно было довольно отчетливо расслышать, о чем шел разговор.
«Сколько на этот раз?» — спрашивал женский голос. «Ничего, ничего, — отвечал ему очень довольный мужской, — ребятишкам на молочишко наскребем». — «Ну вот, я же говорила! Маленький дополнительный сбор — и все проблемы сняты. Теперь и в типографию заплатим, и марку свою купишь. Стоило из-за этого скандал затевать?» — «В типографию… Дерут они в этой типографии… три шкуры». — «Ох и жлоб же ты, Разумов! Свои, что ли, отдаешь? На себя-то не скупишься! Слыхано ли — такие деньги за марку отваливать!» — «Ладно, ладно. Давай списки проверим. Все сдали-то?» — «Давай. Так, Антипов сдал, Иванов… Трифонов… Сидорчук… Чурилин… Чунтонов… что это они там все на „Чу“ — из Чуркестана, что ли?»
Из кабинета донесся смех. Лицо моего товарища выражало, наверное, те же чувства, что и мое, когда я впервые услышал эти разговоры. И если в тот раз я не мог увидеть сам себя, то сейчас, глядя на него, очень четко представил свою тогдашнюю мину.
Проверив списки и пропустив по рюмке коньячку за то, что им успешно удалось «окучить» очередную партию лохов, Разумов и Зильберг стали собираться домой, и мы поспешили убраться восвояси.
Когда мы снова присоединились к остальным, моему товарищу не нужно было ничего говорить — все было написано у него на лице. Пересказав кое-что из услышанного разговора, он смог окончательно убедить всех: то, что я говорил о профессоре, не было выдумкой. Мы решили, что так этого оставлять нельзя.
Хотя у нас все платят за учебу, но родители не у всех богатые, многие вынуждены отказывать себе в чем-то, чтобы дать детям возможность получить образование. А если добавить к этому еще и взносы в общество, которые многие из нас вымогали у родителей под видом учебных нужд, то понятно, в каком положении оказывались эти люди. И все это — для того, чтобы Разумов смог купить себе очередную марку!
Мы решили наказать его. Обсуждая, как это сделать, мы перебирали разные варианты, но самый лучший предложил Леха: подкараулить в темном закоулке и просто избить. Если бы мы попытались сделать какие-то разоблачения — стали бы рассказывать о его делишках другим студентам или переубеждать членов общества, — это нам самим вышло бы дороже: поверили бы очень немногие (если уж даже мои товарищи отказывались верить мне). Да и словами таких, как Разумов, не заденешь. Подать на него в суд — много чести! Мы решили поступить с ним так же, как он поступал с другими, — незатейливо и по-хамски.
Ведь, отбирая деньги, он не утруждал себя придумыванием каких-то сложных схем, просто говорил — приносите, и люди несли. Так же и мы: не будем возноситься в эмпиреи и придумывать изощренную месть, а разберемся так, как разбираются с быдлом. С быдлом, за которое он держал нас всех, но которым на самом деле был только он!
Во вторник, 24 сентября, нас всех пригласил на день рождения Генка Макаров, мой одногруппник. Народу собиралось много, и мы решили, что сможем потихоньку уйти в середине праздника, сделать свое дело и так же незаметно вернуться. Мы знали, что по вторникам у Разумова занимаются вечерники, поэтому он поздно возвращается домой. Чтобы сократить путь, он всегда проходил одним темным переулком, вот там-то мы и хотели его подловить.
Генка живет в частном доме, довольно далеко от центра, но мы рассчитали время так, чтобы успеть. Как раз когда мы собрались уходить, пришел Сережка Жигалин с параллельного потока и со своими пацанами очень удачно отвлек от нас внимание.
Никто из нас никогда раньше не делал ничего подобного, но страха не было. Одна мысль о том, как он поступал с нами, разглагольствуя о высших материях и тут же набивая себе карманы нашими деньгами, которые многие собирали, продавая нужные вещи, придавала нам бесповоротную решимость. Даже девчонки хотели идти с нами, но мы, конечно, не взяли их.
У Генки в огороде торчали какие-то колья — помидоры, что ли, были привязаны, — мы их выдернули да прихватили еще пару досок от какого-то раздолбанного ящика, что валялся во дворе…
Так вот она — заноза, не дававшая мне покоя! Конечно же — частный дом! Ну где еще можно взять неровные палки, напоминавшие собой ветки дерева, с заостренными концами, испачканными в земле? И как это я раньше не додумалась! Но Влад продолжал свой рассказ, и я стала слушать.
— На дне рождения мы немного выпили, и от этого смелости прибавилось. В кураже мы не думали о том, что идем в своей одежде и с открытыми лицами: профессору легко будет узнать нас. Не думали и о том, как это может потом отразиться на учебе… Мы не собирались убивать его, — сказал Влад, впервые за все время своего рассказа взглянув на меня, — только избить… проучить, чтобы не смел так обращаться с людьми! Еще прикалывались — мол, как-то он появится в институте с синяками на морде? Но я не жалею… и знайте, — снова посмотрел он на меня, но уже совершенно другими глазами, жесткими и упрямыми, — профессора убил я один, и, что бы я вам сейчас ни говорил, вина лежит только на мне одном, никто не заставит меня впутать в это дело моих друзей! Они были на дне рождения, понятно вам?
Бедный мальчик, если бы он знал про диктофон!
— Мы вошли в переулок как раз в тот момент, когда с другой стороны в нем показался профессор. Не знаю, кто ударил первым, но помню, что я чувствовал какую-то животную ярость и дикое удовольствие от того, что могу наконец дать выход своим чувствам. Разумов узнал меня. Помню, на лице его выразилось изумление, и он пробормотал что-то вроде: «Влад! И ты здесь? А я-то думал, что ты продолжишь мое дело…» Точно его слов я не помню, к тому же говорил он довольно бессвязно. Но смысл я уловил, и это окончательно взбесило меня. «Твое дело?! Твое дело?! — неистово орал я. — А как же моя сестра?! Человек, жизнь которого не стоит ничтожной марки? Сколько еще таких, которые из-за тебя лежат сейчас в могиле?! Это на их костях я буду продолжать твое дело?!»