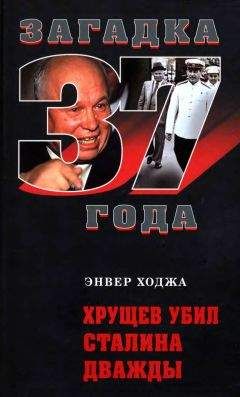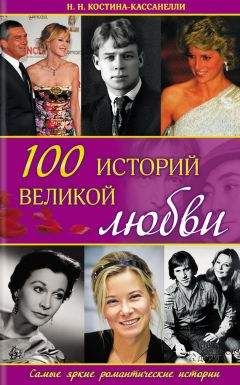— Ну да…
Значит, кошка жива-здорова. Ну, это еще ничего не значит. Может, кошке это нипочем. Едят же лоси мухоморы! А ежики даже ядовитых змей.
— И много вы этого зелья купили?
— Да бутылочку, граммов двести… Кошке дала… ну, ложку столовую в молоко. А граммов сто — в пирожные бисквитные. Савицкий их очень любит. Знаете, такие… в виде пенечков. С ромовой пропиткой. Лариса Федоровна сама торт забирала… Господи! Сама! Для стервы этой, что мужа у нее отняла! Святая она… Ну, я ей коробку этих пирожных и дала. Для мужа.
Теперь Кате все стало ясно. Лариса Федоровна отдала пирожные мужу, а тот, скорее всего, презентовал коробку своей любовнице, когда провожал ее домой. Та их съела. А патологоанатомы эти пирожные и торт приняли за одно и то же. Да что там, в желудке, разберешь — где торт был марципановый, а где пирожные «в виде пенечков». Катя посмотрела на незадачливую мастерицу и тяжело вздохнула. Да, влипла эта кондитерша. Она сама-то хоть сознает, что наделала? Так… столовая ложка, да еще сто граммов… А было двести? Интересно, остальной яд где? Патологи говорили, токсина в организме Кулиш было столько, что слона убить можно. Куда эта милая женщина дела остаток отравы?
— У вас не сохранилось, случайно, этого зелья? — осторожно спросила она.
— Там его много осталось еще, в пузырьке. Сейчас принесу.
Черная походкой манекена удалилась куда-то, а Катя мигом выхватила из сумки диктофон, чтобы проверить, пишет дурацкая машинка, выданная ей в отделе, или нет. Диктофон этот был старье ужасное и заедал два раза из трех, да и то в лучшем случае. А купить новый, свой собственный, она собиралась давно, но все время появлялось что-то неотложное, первоочередное, вроде новых белых джинсов, которые ей очень шли, и покупка диктофона снова откладывалась. Агрегат поскрипывал, огонечек горел, лента перематывалась — все было в порядке. Кондитерша все не шла, но Катя не хотела останавливать запись — второй раз приборчик мог и не заработать. Катя сидела как на иголках, когда Черная наконец появилась.
— Вот.
— Вы же сказали, там еще много оставалось… — холодея, прошептала старлей Скрипковская, зная уже наперед, что с работы ее точно выгонят. И не просто выгонят, а с позором. Ибо она отправила эту Черную за ядом одну. В состоянии аффекта. Нужно было звонить в отдел, задерживать кондитершу, оформлять выемку по всем правилам. А то, что она ей сейчас принесла, — это, может, и не тот пузырек вовсе, а токсин плывет себе сейчас в канализации…
Внезапно у кондитерши подкосились ноги, и она буквально рухнула на стул. У Кати от страшной догадки чуть не остановилось сердце.
— Что вы с ним сделали?! — закричала она.
— Вы… пила… — Женщина слабо двинула пузырек с остатками жидкости по направлению к Кате. — Не… хочу…
Старлей Скрипковская холодеющими пальцами набрала номер:
— «Скорую» по адресу… Срочно!
* * *
— Смерть Оксаны — это как выстрел из стартового пистолета. Все куда-то понеслось, куда-то поехало. Стали всплывать какие-то совершенно отвратительные слухи, сплетни… Ну, например, что мы с Томочкой лесбиянки…
У завтруппой Елены Николаевны, в кабинете которой снова сидел старлей Бухин, скривилось лицо.
— Мы ведь действительно живем вместе… много лет. Нам так удобно. У меня большая жилплощадь, а Томочкину квартиру мы сдаем, и эта прибавка позволяет нам жить по-человечески. Лия Ахеджакова с подругой тоже живут вместе… много лет, и это никого не удивляет. Правда, у них есть семьи… А у нас с Томой никого нет… Мы очень одиноки… были бы… не будь у нас друг друга…
Саша Бухин еще не понял, зачем его так срочно послали в театр. Сорокина сказала, чтобы он опросил именно завтруппой. Потому как та, позвонив, сообщила, что у нее есть важная информация. Оказывается, старухе хотелось, чтобы следовательша в первую голову узнала о том, что кто-то распускает о них с подругой грязные сплетни. Она заявила, что интуиция ее ни разу в жизни не подводила и что это напрямую связано с убийством. А еще ей кажется, что все события последних двух месяцев взаимосвязаны. Но старлей сильно в этом сомневался…
Саша сидел, скорбно подперев голову, и слушал. Ну, во всяком случае, если уж он потерял время и явился сюда, нужно выжать из посещения максимум информации. Иногда именно в таких разговорах ни о чем и всплывает то крохотное зерно истины, за которым они все охотятся.
— Или еще — что два солиста балета стрелялись из-за третьего.
— Это что, неправда? — осторожно спросил Бухин.
— Что стрелялись — неправда. Подрались, да… И не из-за третьего, а просто подрались. Конечно, некрасиво подрались, прямо на сцене. Или что Оксану Кулиш убила Лара Столярова. Из-за мужа. Ну что за глупости! У Лары к Оксане давно все перегорело. Она мне сама как-то говорила. А все шепчутся по углам, и… как-то действительно страшно. Савицкий тоже сам не свой. А вчера появилась очередная мерзость — что у него новая любовница — Аня Белько. И все это бьет по одному человеку. Ну, если не считать нас с Томой. Вы не находите? Все эти слухи направлены на то, чтобы дискредитировать Лару Столярову. На нее уже просто жалко смотреть! Она, конечно, сильная женщина и держится, но видно же, как ей это дается. Меня прежде всего интересует, кто распускает эти возмутительные сплетни? Знаете, Саша, я пыталась это выяснить! Но каждый кивает на другого, и найти первоисточник, так сказать, совершенно невозможно. Я думала, что вы, как профессионал сыска, мне в этом поможете. И знаете, мне лично кажется, что все эти злые пересуды и убийство Оксаны Кулиш связаны между собой. Кто-то сидит в театре… какая-то гадина… и плетет паутину. У меня дурные предчувствия — одной смертью все это не кончится, — мрачно подытожила завтруппой. — Случится еще что-то… что-то ужасное!
Губы старой женщины задрожали, и она сделалась еще более, чем всегда, похожей на черепаху. Острое чувство сострадания шевельнулось в старлее, и, хотя он и понимал, что пришел сюда, наверное, зря, распрощаться и уйти сейчас было не только невежливо, но и, пожалуй, жестоко. Нужно как-то отвлечь старуху, расстроенную всеми этими толками, на которые в другой момент она, возможно, и вовсе не обратила бы внимания. Вокруг творческих людей всегда домыслы, слухи… порой самые невероятные.
— Елена Николаевна, извините мое праздное любопытство, но как вы сами оказались в театре? — спросил он. — Сюда ведь не попадают люди просто с улицы? Вы пели или были танцовщицей?
Пожилая женщина удивленно на него взглянула, но глаза ее, как показалось Бухину, вдруг полыхнули каким-то огнем, и черепашье лицо сделалось почти красивым…
— Вы попали в точку, — с какой-то печальной иронией проскрипела она. — Сюда не попадают с улицы. Мы все здесь — до последней уборщицы — связаны с искусством, так или иначе. Это очень прочные узы. Они не отпускают людей всю жизнь, до самой смерти. А как я сама попала в театр… О, это старая история. Это началось очень, очень давно. Да, конечно, я не случайно сижу на этом месте уже много лет. Музыка, театр — это и есть моя настоящая жизнь. Единственная жизнь. У меня нет семьи, нет никого, кроме Томочки. Это мой единственный друг. Все остальные… — завтруппой изящно махнула рукой, и Бухину почему-то снова показалось, что когда-то она была очень красива. Может ли старая женщина со скрипучим голосом, похожая на черепаху, быть красивой?
— Елена Николаевна, а у вас нет каких-нибудь старых фотографий… времен вашей молодости?
Она не удивилась. Встала и, тяжело припадая на одну ногу, направилась к шкафу. Извлекла оттуда большой пыльный альбом и вернулась к столу.
Таких альбомов теперь уже не увидишь в магазинах, хотя, наверное, они еще хранятся в каждой второй семье. Малинового бархата, с плотными коричневыми страницами, к которым аккуратно приклеены уголки для фотографий.
— Вам действительно интересно?
— Да, конечно…
— Почему вы пошли работать в милицию? Я же знаю, вы не такой, как они.
Бухин покраснел.
— Вы, наверное, мало видели нашего брата, — нарочито развязно произнес он.
— Видела, и предостаточно, — иронически взглянув на его лицо, покрывшееся румянцем смущения, отрезала завтруппой. — Я встречалась одно время… с одним из ваших. Это было очень давно, много лет назад. Но люди мало меняются. Я имею в виду кастовую, так сказать, принадлежность. Впрочем, это неинтересно…
— Почему же неинтересно?
— Вам неинтересно! — непреклонно изрекла старая женщина.
— Боже мой, какие лица! — не выдержал Бухин, листая альбом. — Ведь здесь же вся история нашего театра! Это… это не должно пропасть! Вам нужно написать об этом книгу, — убежденно сказал он.
— Кому нужна история нашего театра? — отмахнулась завтруппой. — Историю всяк переписывает, как хочет. Не хочу даже участвовать в этом безобразии. А люди… да, люди попадались весьма, весьма интересные. Да, меня посещала одно время такая мысль — написать книгу. Не об истории, а именно о взаимоотношениях людей. Все мы меняемся со временем… Кто-то остается красив, а кто-то становится безобразен. — Старуха криво улыбнулась, и в ее словах Саше послышался оттенок горечи. — Но не меняются отношения людей друг к другу, личностный вектор страсти, так сказать, остается на месте. Вся история человеческих взаимоотношений вращается вокруг очень немногих вещей. И вещи эти — любовь, власть, зависть и деньги. Ну, может быть, в несколько иной последовательности, ведь для каждого эта последовательность — своя.