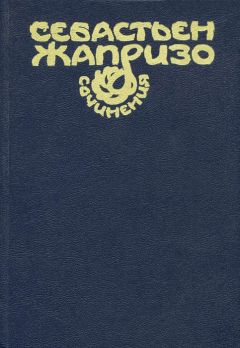— Ну и как вам эта дама показалась?
— Ну уж, что и она преступница, в голову не пришло.
Невольно я обмолвился, «и она» сказал так, будто с Мариночкой уже определилось. Заметил обмолвку и признался себе — значит, для меня определилось.
— Преступница или нет, пока разбираемся, — поправил Юрий серьезно.
— А что мальчик? Я перед ним ответственность чувствую…
— Мальчика нет.
— Розыск бессилен?
Мазин отошел от окна.
— Розыск не бессилен. Мы не задействовали розыск.
— Почему? Вы же можете объявить… Ну, как там на ваших афишках пишут: «Разыскивается… ушел и не вернулся…» — вспоминал я формулы объявлений, которые как-то просматривал на специальном стенде в аэропорту в ожидании самолета.
— Мы думаем, в этом нет необходимости. Мать, мне кажется, знает, где мальчик.
— Знает?
— Иначе она проявляла бы больше настойчивости.
Возражать я не стал. Не люблю дилетантски вмешиваться в профессиональные дела. С тем распрощался и ушел, поблагодарив за все, что узнал о «милой Мариночке».
По пути к выходу я встретил в коридоре человека, которого мельком знал по городу. Недавно еще многие гордились знакомством с ним, а теперь он шел, заложив руки за спину, опустив голову, в сопровождении солдата внутренней службы…
Слова Мазина о том, что мальчика не разыскивают, оказали на меня воздействие, которого он, я уверен, не ожидал, толкнули на поступок и для меня неожиданный. Сам еще толком не представляя, зачем я это делаю, на следующий день, раздобыв нужный адрес, я остановился перед калиткой, врезанной в железные ворота, покрытые потрескавшейся и обсыпавшейся местами краской. Калитка была заперта, и мне пришлось поискать взглядом звонок, прикрытый куском резины, вырезанной из автомобильной камеры.
Позвонить пришлось дважды. Потом я услышал, как скрипнула дверь в доме. «Нужно бы смазать», — подумал я машинально. Послышался стук каблуков, неторопливый; так ходят чувствующие себе цену женщины.
Глазок в калитке приоткрылся, закрылся, и калитку отперли.
— Вам что? — спросила женщина, которую я узнал.
Она разглядывала меня с недоумением и не очень приветливо.
— Разрешите зайти, я объясню.
Женщина помедлила, но не возразила.
Я переступил порог и увидел двор, а во дворе дом и гараж. Выглядело все запущенным. С давно не крашенной крыши свисала потерявшая колено ржавая водосточная труба. Неуправляемо полз всюду, где мог закрепиться, дикий виноград, осели каменные плиты порога, даже телевизионная антенна заметно покосилась. По бетонной дорожке ветер волочил пожухшие от зноя листья.
Наверно, увиденное отразилось в моем взгляде. Она заметила это и пожала плечами.
— Хозяина нету.
Я неопределенно кивнул.
— Раньше муж следил.
Но казалось, что за домом и двором не следят уже давно. И она снова поняла.
— Я сказала, раньше следил, а в последнее время… охладел. Ну, ничего, поднимемся. Родные стены еще послужат.
— Это ваш дом? — спросил я, чтобы откликнуться и наладить первый контакт.
— Я родилась здесь. В буквальном смысле. Отец не доверял бесплатной медицине.
«О чем это она? Бабку повивальную звали, что ли? Может быть, старообрядцы какие-нибудь?»
Я вспомнил, что неподалеку находится старообрядческая церковь. Сам я, впрочем, никогда в жизни не видел ни одного старообрядца, кроме известной боярыни Морозовой, изображенной на полотне Суриковым. Не знал я и того, что отец Михалевой был директором известного в городе гастронома, унаследовавшего от дореволюционного владельца мрамор и бронзу, которые куда-то исчезли после капитального ремонта лет десять назад. Советский завмаг, понятно, ни к буржуазии, ни к старообрядцам никакого отношения не имел. В торговлю его выдвинул комсомол, и в пожилом возрасте он с усмешкой вспоминал, как противился выдвижению на этот не передовой, по мнению современников, участок. Случилось то при нэпе, когда потребовалось бросить вызов частнику, но я и догадаться о такой предыстории не мог, ибо в моем представлении работники торговли жили совсем иначе, в особняках, так уж в особняках. Откуда мне было знать, что бывший директор вырос в подвале, где в одной комнате жила семья из семи человек, а младший братишка спал в корыте, которое днем вешали на гвоздь в кухне. Для него этот обветшавший и весьма скромный по нынешним меркам дом был дороже шереметевского дворца.
И внутри дома не оказалось ничего особенного. Впрочем, я и не присматривался. Меня ведь совсем другое интересовало.
— Прошу, садитесь!
Я опустился в старое кресло.
Она смотрела вопросительно.
— Вы вряд ли меня помните, — начал я неуверенно.
— Почему же? Помню, на диспуте, — возразила женщина.
Я удивился и обрадовался.
— Да, да. Вас зовут Ирина Васильевна?
Тут она охладила меня.
— Ну и что?
— Ваш мальчик пропал?
— Кто вам сказал?
— Значит, не пропал?
— Кто вам сказал, что пропал? — повторила Ирина.
Врать я не мог, ложь всегда мне мешает, и я избегаю ее всеми силами.
Невольно я огляделся, как бы ища поддержки, но, кроме нас, в комнате никого не было. Мебель — теперь я разглядел ее — была какая-то сборная: старое трюмо, явно родительского происхождения, того же времени круглый черный столик на одной, расходящейся у основания резной ножке, и тут же недавнего выпуска полированный шкаф.
Я повторил слово в слово то, что сказал Марине.
— Понимаете, совершенно случайно ко мне заглянул знакомый юрист.
Она ответила проще, чем Марина.
— Понятно.
— Да нет, в самом деле случайно. Мы учились в одном университете…
— Хотите рюмку водки? — предложила вдруг Ирина, перебивая меня.
Я растерялся.
— Нет, что вы…
— Ну, как хотите, сейчас это дефицит. А чаю? У меня как раз чайник закипел…
— Чаю… пожалуй.
Ирина поднялась, легко неся уже начавшее немного полнеть тело. Из кухни она вернулась с заварным чайником и поставила его на круглый черный столик.
— Вам удобно?
По сравнению с креслом столик был высоковат, но я заверил:
— Да, да, конечно.
Она молча вышла и принесла чашки, печенье в вазочке.
— Покрепче? Или кипяточком разбавить? Я не разбавляю.
— Покрепче, пожалуйста.
— А кофе не хотите? Есть растворимый. Бразильский.
— Нет, лучше чай.
— Как хотите.
Сказано было, как и о водке, равнодушно, но я и не ждал большего.
«Нужно ее понять. Какое тут радушие!»
Она села напротив.
— Так что же сказал вам юрист?
— Оказалось… ну, он мне рассказал очень неприятную историю…
— Про меня?
— Да, но — я понимаю…
— Все понимают, когда не с ними случается, — сухо отметила она.
Я смутился.
— Я хотел о мальчике.
— А мальчик что? Зачем он вам?
— Я слышал, он… не дома.
— Ну и что? Он в деревне.
Вот и все. Я почувствовал себя дураком. Значит, она знала, где сын. Но почему Сосновскому не сказала? Мазин, однако, сразу понял: трагедии нет. Иначе мать вела бы себя иначе. Так и есть.
— Отдыхает?
Вопрос прозвучал излишне бодро.
— Нет, он работает.
— Работает?
— Да. Они работали в колхозе всем классом. Потом дети вернулись, а он остался.
— Один?
— Он работает на комбайне.
— Но он несовершеннолетний.
— Он умеет. Он в отца, любит технику. И его оставили.
— Вы разрешили?
— Я не хочу, чтобы он присутствовал на суде, где его мать будут обвинять в убийстве. Может быть, все-таки водки выпьете?
— Нет, спасибо.
— А я выпью. Можно?
— Да, конечно.
Ирина подошла к буфету, достала початую бутылку.
«Так вот почему она так настойчиво предлагала мне выпить. Ей неудобно пить одной. Однако решилась. Ну, тут понятнее, чем с Мариной».
Я поторопился. Время показало, что я еще ничего не понимал.
Я, собственно, и спрашивать-то толком не знал, о чем. И потому повторился:
— Значит, вы его в колхоз отправили?
Ирина задержала поднятую уже рюмку и посмотрела на меня как-то смешавшись.
— Разве я сказала — отправила? Он сам.
Она подчеркнула два последних слова, а потом, как и я, повторилась:
— Зачем ему на суде быть? Не нужно.
И выпила.
— Мальчика на суд не вызовут, я думаю.
— Он без вызова пошел бы.
Получалось противоречие: пошел бы, но уехал. Сам.
— Вы убедили его уехать?
Теперь Ирина взглянула на меня более уверенно, сработала первая доза алкоголя.
— Я вам говорила, он сам уехал.
— Тем более.
— Что тем более?
Я, как и Сосновский, вспомнил классиков. Но сейчас был не тот случай, когда можно отделаться шуткой «вот именно». А что тем более — я вдруг и сам не понял, потерял мысль и, ругая себя, сказал:
— Значит, не приедет на суд.