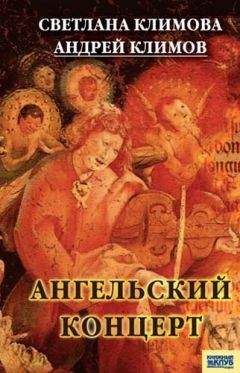Мне очень хотелось взять Митю на руки, прижать к себе, почувствовать его ангельское дыхание. Табу. Законы здесь устанавливает мой зять: режим, никаких рук, спартанское воспитание. Глупцы, начитались доктора Спока… Я сама была такой, и только теперь понимаю, как одинок маленький ребенок, как необходимы ему тепло и любовь…
За бокалом вина Павел заговорил о своем бизнесе. Магазинчик «Вещи с биографией» оказался неожиданно доходным, и сын уже не арендовал помещение, а выкупил двухэтажный особняк целиком, расселив его жильцов. Внизу полным ходом шла реконструкция, и на это время весь антиквариат переехал на второй этаж. В Павле появились уверенность в себе и спокойствие. Анна неприязненно косилась на него и вдруг заявила, что весь этот примитивный капитализм — не по ней. Павел оторопел: «Аня, это же работа! Не хуже и не лучше твоей». «Работа! — пренебрежительно произнесла она и оглянулась на дверь спальни. — Что толку от твоего реликтового хлама, если в детских больницах нечем окна застеклить? Ты знаешь, как оперирует мой муж? Чуть не голыми руками — как филиппинский знахарь… А медикаменты, не говоря уже об аппаратуре? Мы с Алешей оба врачи, но я рожала со своими пеленками, аптечкой, перевязочным материалом и даже мылом. Это нормально? Не говоря уже о мелких и крупных подарках персоналу…» «Ты несправедлива ко мне, Аня, — возразил Павел. — И хотя то, что ты говоришь, чистая правда, спорить с тобой я не стану…»
Я знала, что он подарил им деньги, довольно крупную сумму, и это почему-то задело Анну. Им не хватало одной зарплаты Муратова, и думаю, что именно после этого разговора Анна решила выйти на работу. На мой растерянный вопрос: «А как же Митя?» — дочь пробормотала: «Найду няньку… брошу кормить грудью…» «Зачем же так? — сказала я. — Я теперь свободна… Почему бы тебе не позволить мне побыть с мальчиком до тех пор… до тех пор, пока это будет необходимо?..»
Прощаясь, Галчинский заметил: «Ты удивительно изменилась, Нина! Глаза снова сияют — как в молодости. Второе дыхание?» Я засмеялась. Костя наклонился завязать шнурок на своем щегольском башмаке и, не разгибаясь, пробормотал: «А знаешь, кто снова появился в городе? Помнишь такого мистера Уилла… лектора по любым вопросам? Недавно он по старой памяти заглядывал к Павлу…» — «В самом деле? — спросила я, сразу насторожившись. — И что ему там понадобилось?» — «Деньги, наверное. Им всем нужны деньги… — Галчинский со вздохом выпрямился. — Он теперь глава новоиспеченной церкви, ни больше ни меньше… Покрутился в магазине, купил копеечный подсвечник, оставил визитную карточку. Несмотря на американское гражданство, он — типичный немец». — «Почему ты так решил, Костя?» — «Нюх, моя дорогая, — усмехнулся Галчинский. — Я и сам немец по натуре. Разве ты до сих пор не догадалась?»
От этой новости у меня остался неприятный осадок, но потом проснулся Митя, и в возне с малышом тревога постепенно рассеялась.
Возвращаясь, я думала о Матвее. Он много работал в последнее время, был полностью сосредоточен; еще неизвестно, как он отнесется к моим планам заняться воспитанием внука. Дома я с этого и начала, но, к моему удивлению, Матвей принял известие спокойно. «Когда-то это еще будет… — только и заметил он. — Ребенку всего месяц. Я уже сейчас тебя не вижу…» — «Скоро, — сказала я. — Анна хочет работать и…» — «Может, забрать их обоих к нам? — с надеждой перебил Матвей. «Не выйдет. Муратов против. У него принципы». — «Помнишь мою маму? — помолчав, вдруг спросил он. — Я знаю — ты хочешь быть с внуком. Но все-таки не торопи события… И вот что я тебе скажу: давай, пока стоит хорошая погода… съездим куда-нибудь на пару недель. Например, в Париж. Или в Афины? Хотя нет — лучше в Италию!..»
Час назад мы приняли решение отправиться в Рим. Матвей сразу же сел звонить Павлу — кто-то из его приятелей может помочь с визой. Затем он уехал, прихватив документы, а меня вдруг обуяло нетерпение; впервые за многие годы мне захотелось нарушить привычный ход событий и испытать что-то необычное…
16 июля 2005 года
Чтобы не ошибиться, я заглянула в отцовскую Библию. Ровно сорок девять лет, как мы с Матвеем вместе. Через год будет полвека.
Мы никого не зовем и не ждем, дети давно об этой дате забыли. У всех свое. Константин Романович позвонил с утра и намекнул, что неплохо бы встретиться, однако я сказала, что мне нездоровится. Врать нехорошо, да и голос меня тут же выдал… Я проснулась с удивительно легким настроением: солнце било сквозь наполовину сдвинутые шторы, на столике стояли розы — не из сада, другие. В последние годы Матвей часто дарит мне цветы и всякие мелочи… Иногда он мне снится молодым — сладко и печально; с бьющимся сердцем я открываю глаза, щеки пылают… чувственная память в человеке умирает последней.
Я люблю его. Сейчас он нравится мне даже больше, чем раньше. Его энергии и упорства хватило бы еще на одну жизнь. Нравится его теперешняя манера одеваться — джинсы, свитера, футболки, мягкие кожаные кроссовки… Нравятся его картины, которые он отказывается выставлять, и каждую пишет месяцами, медленно и сосредоточенно, будто вынашивает ребенка… Нравится, как пахнут его руки… Иногда, очень редко, Матвей позволяет себе выкурить сигарету, а раз в неделю откупоривает бутылку хорошего вина — это называется «ужин у камина». За вином и едой он по обыкновению молчалив, зато у меня развязывается язык, и я говорю о внуке и детях, о Косте Галчинском, у которого с годами только прибавляется странностей, о прочитанных книгах и о том, что одиночество вдвоем — совсем неплохая вещь.
Политики мы не касаемся никогда. Скучно и гадко. Все как и сто, и пятьдесят лет назад, только упаковка поярче.
Нам хорошо вместе, и я прошу Бога продлить наши дни.
Глупо, когда человек пытается избавиться от собственного прошлого. Будто и в самом деле можно начать с чистого листа. Или стереть все страшное и жестокое, а хорошее оставить. Заснуть одним человеком и проснуться другим. Нить жизни невероятно крепка, поэтому…
В саду лает пес — значит, приехал Матвей. Три года назад он подарил мне щенка лабрадора удивительной серебристой масти и дал ему имя Брюс в честь кого-то из шотландцев — не то короля, не то полковника русской службы при Петре. И пока Матвей ставит машину в гараж, я успею…»
И все. Последние строчки были нацарапаны наспех, а затем шли чистые листы. Их было четырнадцать, и я просмотрел каждый, слегка наклоняя блокнот, чтобы свет падал под углом. Обычная, слегка пожелтевшая от времени бумага. В корешке никаких следов вырванных страниц. За время, протекшее между шестнадцатым июля 2005 года и такой же датой следующего, ничего не случилось. Во всяком случае, ничего такого, что было бы, по мнению Нины Дмитриевны, достойно упоминания в дневнике.
Я захлопнул блокнот.
Нина и Матвей Кокорины были симпатичной парой. Два достойных и мужественных человека. Оба по-своему талантливы. И в том, что я прочитал, не нашлось ни слова, ни единого намека на то, что он или она предвидели такой конец.
Тогда что произошло в июле и кто мог об этом знать? Галчинский? Соседи по участку? Кто-то другой? И почему Анна так уверена, что самоубийства не было и быть не могло? Только потому, что смерть Дитмара Везеля, о которой она наверняка знала от матери, тоже сочли самоубийством? И еще — гибель художника Коштенко… Обычная пьяная драка, но Нина Дмитриевна каким-то образом связывала это событие с судьбой отца…
Все началось задолго до того, как я появился на свет. Но потом тревога и мучительные предчувствия ушли, сменившись зрелой ясностью взгляда. Жизнь нашла свою колею.
Я не стал будить Еву. Просто прошел в комнату, где горел ночник, бесшумно повернул ключ в замке ящика письменного стола и нащупал среди бумаг клеенчатую тетрадь Матвея Кокорина. Затем вернулся в кухню, уселся на прежнее место в кресло и, прежде чем открыть, пропустил веером перед глазами пухлый блок страниц.
Даты отсутствовали. Тетрадь была исписана чернилами всех мыслимых цветов, а кое-где даже фломастером. Будто Матвей Кокорин хватался за первое, что попадалось под руку, чтобы зафиксировать мысль или впечатление. Но это наверняка было не так. Труд реставратора требует железной дисциплины и скрупулезной точности, и это накладывает отпечаток на все, что бы ни делал человек. Цвет — особая сигнальная система для художника, а значит, можно предположить, что за пестротой в тетради кроется определенный смысл. Какой, я пока не знал.
Возможно, тут и в самом деле что-то было, но скоро я совершенно перестал замечать эти мелочи. Потому что в руках у меня оказался не дневник, и даже не комментарий к прочитанному дневнику жены, как я решил поначалу, а нечто совершенно иное.
Начал я со второй страницы (синие чернила), потому что уже знал, что написано на первой.
«…Тропа вьется заливным лугом, едкая зелень будоражит зрение. Мастер грузно покачивается в седле, позаимствованном вместе с конем у начальника караула, чавкают копыта. Мальчишка-подмастерье, сидящий сзади на крупе, звонко болтает и смеется, радуясь свободе, безлюдью и вольному сырому воздуху низкой равнины, ограниченной на юге обширными сосновыми лесами. Пахнет аиром и водяным перцем, конским потом, и мысли Матиса Нитхардта, чье неблагозвучное имя означает «низкий сердцем», от близости воды и трав сумрачны и спокойны, как река, вытекающая из болот…»