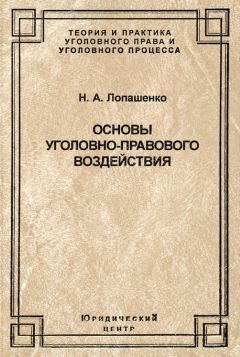— Вы бы сразу к нам…
— Тогда были сомнения. Теперь вот доказательства…
— Вы же десять дней упустили…
— Выходит, ограбил нас стриженый? — Матвеев помотал головой, словно приходя в себя. — Он хуже бандита оказался. Родительским чувством воспользовался. Разве можно так бить? Видел же, что мы и так горе мыкали. Еще больше удар нанес, когда сказал, что Юрка тяжко заболел. Сын все же…
— Похоже, обманул ваше доверие стриженый, — сдержанно сказал Арсентьев. — Сколько он пробыл у вас?
— В общей сложности часа полтора.
— Кто его видел?
Матвеев прищурил глаза, словно припоминая что-то.
— Никто. Мы были одни.
— Как он назвал себя?
— Никак, хоть я и спрашивал. Сказал, что береженого Бог бережет. А он рискует…
— Какие его приметы? Говорите! Это очень важно.
— Это я могу! Запомнил хорошо, — переводя дыхание, проговорил Матвеев. — Худой, долговязый, руки длинные, жилистые. А вот здесь у него шрам, — он ткнул пальцем чуть выше брови. — Сантиметра два, никак не меньше. В общем, бандитская рожа.
Поняв, что сказал все, что требовалось, Матвеев деловито обратился к Арсентьеву:
— У меня к вам просьба, товарищ начальник. Разыщите этого проходимца, помогите вернуть деньги. Они для сына предназначены…
— Постараемся!
— Только не рассказывайте стриженому о моем заявлении, когда поймаете. Наслушались мы насчет преступников. Говорят, они мстят потом. — Матвеев побледнел. Он так разволновался, что даже на какое-то время закрыл глаза.
Арсентьев готов был вспылить.
— Частным розыском мы не занимаемся, — сказал он сдержанно. — И не пугайте себя слухами. Вы взрослый человек. Таких случаев с потерпевшими не бывает.
Матвеев неуверенно взглянул на него.
— А с сыном ничего не случится?
— С ним ничего не случится, — успокоил Арсентьев.
— Спасибо! Очень обязан… — В глазах вновь светилась потухшая было бойкость.
— Ответьте на один вопрос. Когда сговаривались со стриженым, вы понимали, что действовали в обход правил?.. Что тоже хитрили?
Матвеев простодушно улыбнулся и уставился глазами-бусинками на угол стола. Он долго молчал. Наконец смущенно проговорил:
— Стриженый на родительских чувствах сыграл. — Он часто заморгал глазами, пробормотал что-то невнятное и, передернув плечами, приподнялся со стула.
Арсентьев проводил его в кабинет к Таранцу.
— Примите от потерпевшего заявление, — распорядился он. — Потом получите указания.
Возвращаясь, Арсентьев отметил, что у его кабинета стояло четверо. Он почувствовал чей-то пристальный взгляд и повернулся. К нему навстречу сделал едва заметный шаг представительного вида мужчина.
— Здравствуйте, Николай Иванович. — Мягкий баритон прозвучал сдержанно. От ратинового пальто мужчины слегка пахло нафталином и какой-то травой.
Арсентьев узнал в нем врача-гинеколога Усача.
— Здравствуйте, Александр Михайлович, проходите. — Арсентьев посторонился, пропуская его вперед.
Усач смущенно посмотрел на ожидавших своей очереди людей и, слегка поколебавшись, нерешительно шагнул в кабинет.
— Давно мы не виделись, Александр Михайлович. Года полтора, наверное? — попытался уточнить Арсентьев.
— Два года и еще четыре месяца, — тихо проговорил Усач.
Арсентьев вопросительно посмотрел на него.
— Я отбывал наказание, Николай Иванович. Меня осудили…
— За что? — на лице Арсентьева было недоумение.
— За использование служебного положения…
— Я бы никогда не подумал…
— Я тоже не предполагал, — горько усмехнулся Усач.
Арсентьев понимал, что расспрашивать Усача было неудобно — походило бы на допрос. Тактичнее было бы выслушать то, что он сочтет нужным рассказать сам. И все же спросил:
— Как это случилось?
— Длинная история, — сдержанно ответил Усач и нервно повел носом.
Арсентьев решил, что правильно поступит сейчас, если прервет разговор и даст возможность Усачу успокоиться, прийти в себя. Он посмотрел на часы и сказал:
— Я полагаю, разговор у нас будет долгий. Подождите! Я отпущу остальных…
Трое посетителей, ожидавших приема, вошли вместе. У них был один вопрос — жаловались на дебошира из соседней квартиры. Выяснение не заняло много времени.
Усач продолжал свой рассказ с той фразы, которую произнес последней:
— История моя длинная, но вся она — в двух словах. Это тогда я ничего не понимал, хотя друзья и говорили, что я идиот, теперь я понял, что они были правы…
— Мне нравятся самокритичные формулировки, но ваши непонятны.
— Попытаюсь разъяснить. Надеюсь, вы знали меня человеком уравновешенным, пунктуальным? — полюбопытствовал Усач.
Арсентьев утвердительно кивнул, но счел необходимым добавить:
— Больше понаслышке.
Усач понимающе взглянул.
— Все началось с моего отпуска. Четыре года назад в Железноводске я познакомился с курсовочницей. Она терапевт. Приехала в Сочи. Это был не курортный роман. Я это понял сразу. — Усач отвернулся, словно обдумывая что-то и решая: сказать или не сказать? — Я… убедился в искренности ее чувств.
— Ничего удивительного. Вы были друг другу симпатичны!
— Несомненно. Мы уже строили планы на будущий год. Решили ехать в Крым или Прибалтику. — Усач говорил взволнованно, видимо вновь переживая случившееся.
Арсентьев невольно спросил:
— Поехали?
— Нет! Осенью она уже была у меня. Мы расписались.
— Ну и правильно сделали.
— Я тоже так думал. Ее забота обо мне была поистине трогательной. Весной пришла заманчивая мысль — купить полдачи на Пахре. Вы знаете эти места?
— Отличные! Препятствие было одно — далековато от станции. Без машины дачей пользоваться невозможно. Жену это не смутило. Сказала, что ее родственники помогут. Правда, помогли. Прислали две с половиной тысячи. Остальные у меня были. Купили в комиссионном «Москвич». И стал я мужем на колесах… А через месяц пошли разговоры, что надо прописать в квартире ее мать. «Почему?» — спросил я. Обидевшись, сказала: «Забота о родителях — долг детей. Неужели не понимаешь?» — «Но у меня тоже мать», — ответил я. «В тридцати минутах ходьбы», — отпарировала она. Под ее напором мне трудно было устоять.
— И что же?
— Тещу прописали, — сказал Усач с досадой. — Правда, временно. У нее в Сочи сад, фрукты и рядом рынок. Ей трудно было лишиться всего этого, — произнес он с иронией.
— Как это увязывается с судимостью? — спросил Арсентьев.
После небольшой паузы Усач ответил:
— Вскоре жена, а потом и теща стали просить меня сделать операцию их родственнице-студентке. Я категорически отказался и сразу же очутился в отчаянном положении. Напряженность в доме нарастала как снежный ком. Я впервые поссорился с женой. До сих пор помню ее озлобленное лицо и слова. Сказал ей, что грубостью оскорбила не меня, а себя. Через час извинилась. Правда, добавила, что мне от этого лучше не станет. Я не понял тогда, что это означает.
Арсентьев внимательно смотрел на Усача. Он догадывался, что его рассказ еще не коснулся главного.
— И что же? — спросил озабоченно.
— С неделю в доме было сносно. Потом опять злое выражение лица, слова сквозь зубы… Отношения складывались все тяжелее. Это выбивало из колеи. Чувствовал, что теряю почву под ногами. Я опасался объяснений. Вечера просиживал на кухне. В конце концов не выдержал. Сдался. И, как видите, пострадал.
— Сожалею…
— Мне отступать было некуда…
— Так ли?
— Она любила меня…
— Но от преступления не остерегла…
— …Она с отчаянием встретила арест и суд. — Усач сдержал невольный вздох. — Писала часто. Прощения просила.
Арсентьев пожал плечами.
— По-другому, наверное, и не могло быть.
— Потом на свидание приезжала. — И непонятно было, что звучало в голосе Усача — горечь досады или тепло. — В первый раз я дарственную на автомашину написал. Через год она добилась семейного свидания. От радости я боялся проспать следующий день. — После долгого молчания он продолжил: — Утром заметил — смотрит на меня странно. Как на чужого. Я ее спрашивать не стал. Ждал, что сама скажет. И дождался. Перед самым отъездом проговорила: «Я для тебя сделала все, что смогла сделать, даже тогда, когда любовь моя прошла. Долг свой последний выполнила. А теперь забудь, пожалуйста, обо мне. И навсегда…» — Усач, нервничая, говорил, то ли всхлипывая, то ли слегка заикаясь. — Я пытался объясниться, но ничего путного не получилось. Она была тверда в своем решении. Всего ожидал, только не этого. Расстались без крика и шума, как говорят теперь, интеллигентно. Только у меня от всего этого горький осадок остался… Почувствовал, что в жизни моей уже ничего хорошего не будет. Даже после освобождения… Я сам себя тогда толком не понимал. Прошел мучительный год, прежде чем разобрался. И знаете… во мне и сейчас живет одно прошлое…