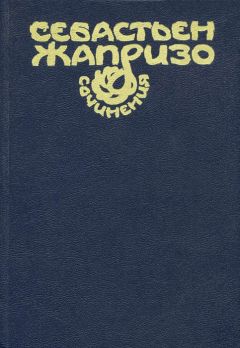Освещенный прямоугольник — дверь в прихожую. Я в темноте. Время растянулось, как старая негодная пружина. Я знаю, что время может растягиваться, я хорошо это знаю. Когда я потеряла сознание на станции техобслуживания в Аваллоне-Два-заката, сколько это длилось? Десять секунд? Минуту? Но эта минута была такой долгой, что действительность растворилась в ней.
Да, именно тогда, когда я, придя в себя, стояла на коленях на плитках пола, и началась ложь. Я рождена для лжи. И нет ничего удивительного в том, что наступил день, когда я сама стала жертвой своей самой отвратительной лжи.
Что произошло в действительности? Я, Дани Лонго, преследовала любовника, который меня бросил. Я послала ему телефонограмму, содержащую угрозу. Через сорок минут после того, как он сел в самолет, я полетела за ним. Я настигла его здесь, в этом доме, когда он уже взял в гараже свою отремонтированную машину. Между нами вспыхнула ссора, я схватила одно из ружей, стоявших здесь в специальной подставке. И выпустила из него три пули в этого человека, две из которых попали ему прямо в грудь. Потом, насмерть перепуганная, я была одержима лишь одной мыслью: подальше увезти труп, спрятать его, уничтожить. Я подтащила его к багажнику машины, обернула в коврик и почти в невменяемом состоянии всю ночь напролет гнала машину по автостраде в сторону Парижа. В Шалоне-сюр-Сон я попыталась несколько часов поспать в гостинице. На дороге меня остановил жандарм за то, что у меня не горели задние фонари. В кафе у шоссе на Оксер я забыла свое пальто. Наверное, из этого кафе я и звонила Бернару Тору. В дальнейшем, по-видимому, в моих планах что-то изменилось, так как я не знала, как мне избавиться от трупа, и, кроме того, поняла, что все равно, когда труп обнаружат, разыскать меня не представит труда. Усталостью и страхом доведенная почти до безумия, я повернула обратно. Левая рука у меня уже тогда была покалечена. Скорее всего, это произошло во время ссоры с моей жертвой. Я вернулась на станцию техобслуживания, где уже была утром, вернулась, возможно, без всякой цели, как автомат, который все время делает одно и то же, не в силах делать что-либо другое. Там, около умывальника, из крана которого текла вода, что-то внезапно оборвалось во мне и я потеряла сознание. И вот здесь-то и началась ложь.
Когда я открыла глаза — через десять секунд или через минуту? — у меня в голове были одни лишь варианты алиби, которые я придумывала в течение всей последней ночи. Видимо, я с такой силой, с таким отчаянием хотела, чтобы реальная действительность оказалась не правдой, что она и в самом деле перестала для меня существовать. Я ухватилась за бессмысленную, сочиненную от начала до конца легенду. Какие-то детали, созданные моим воображением, переплелись с деталями реальной действительности: освещенный экран, кровать, покрытая белым мехом, фотография обнаженной женщины — все это существовало. Но самого Мориса Коба и все, что связано с ним, я начисто отмела и с логикой безумца пыталась чем-то заполнить эту пустоту. Одним словом, опять, как и всегда, когда я оказывалась перед лицом событий, которые были мне не по плечу, я спасалась от них бегством, но, поскольку больше мне бежать было некуда, я, точно страус, засунула голову под собственное крыло.
Да, я сама знаю, все это похоже на меня.
Но кто же такой Морис Коб? Почему он не пробуждает во мне никаких воспоминаний, если уж сейчас я готова согласиться, что все это произошло в действительности? На одной из фотографий, которые я нашла наверху и разорвала, на мне блузка, которую я не ношу уже года два. Значит, Морис Коб знал меня уже давно. Вероятно, я была в его доме не один раз — об этом свидетельствуют мои вещи, которые я здесь оставила, об этом говорила светловолосая девушка, что живет напротив. И потом, если я разрешала этому человеку фотографировать меня в таком виде, значит, у нас были близкие отношения, и это нельзя так просто выкинуть из головы, вычеркнуть из жизни. Нет, я ничего не понимаю.
Но что, собственно говоря, я должна понять? Я знаю, что существует болезнь — безумие. Я знаю, что такие больные не осознают, что они потеряли разум. Вот и все. Мои знания ограничиваются чтением по диагонали женского журнала да философским курсом лицея, который уже давным-давно выветрился из моей головы. Я не в силах объяснить себе, путем какой аберрации я пришла к таким выводам, но, во всяком случае, то, как я представляю себе все, наверное, не так уж далеко от истины.
Кто такой Морис Коб?
Надо встать, зажечь повсюду свет и тщательно осмотреть дом.
Я подошла к окну. Раздвинула шторы. И вдруг почувствовала себя еще более уязвимой: я оставила ружье на диване. Какая нелепость, кто может появиться здесь в такой поздний час? На дворе уже почти ночь, светлая ночь, которую кое-где прорезают мирные огоньки. Впрочем, кто меня ищет? Только я сама. Цюрих. Все вокруг белое. Вот так-то. Тогда я тоже хотела умереть. Я сказала доктору: «Убейте меня, прошу вас, убейте». Он этого не сделал. Если в течение многих лет живешь с уверенностью, что ты преступник, то в конце концов привыкнешь к этой мысли и теряешь разум. Наверное, в этом все дело.
* * *
Когда умерла Матушка, меня оповестили слишком поздно, и я опоздала на похороны, а одна из монахинь сказала мне: «Ведь надо было предупредить и других бывших воспитанниц, вы же не единственная». В тот день я перестала быть единственной для Матушки и никогда уже не была единственной ни для кого. А ведь я могла бы стать единственной для одного маленького мальчика. Не знаю почему — врачи мне ничего не сказали, — но я всегда была уверена, что ребенок, которого я носила в себе, был мальчик. Я храню его образ в своем сердце, как будто он продолжает жить. Сейчас ему три года и пять месяцев. Он должен был родиться в марте. У него черные глаза отца, его рот, его манера смеяться, мои светлые волосы и широкий просвет между двумя передними верхними зубами, как у меня. Я знаю его походку, манеру говорить, и я продолжаю, все время продолжаю его убивать.
Я не могу больше оставаться одна.
Надо выйти отсюда, убежать из этого дома. Мой костюм совсем грязный. Я заберу свое пальто, которое должен привезти Жан Ле Гевен. Пальто прикроет грязь. Я присвою эту машину, я поеду прямо к итальянской или испанской границе, я удеру из Франции и, воспользовавшись оставшимися у меня деньгами, уеду как можно дальше… Надо ополоснуть лицо холодной водой… Матушка была права, мне следовало забрать из банка все деньги и сразу удрать. Матушка всегда права. Сейчас я была бы уже далеко от всего этого. Который час? Мои часы стоят. Надо причесаться.
Я вышла, включила фары машины и взглянула на приборный щиток: больше половины одиннадцатого. Рекламная Улыбка, должно быть, уже ждет меня. Я знаю, что он будет меня ждать. Я поехала по асфальтовой дорожке. Ворота так и остались раскрытыми. Внизу светились огни Авиньона. Ветерок, обвевавший меня, доносил шум праздничного гулянья. Трупа в машине уже нет, не так ли? Да, нет. Кстати, нужен ли паспорт, чтобы пересечь испанскую границу? Надо добраться на машине до Андалузии, сесть на теплоход, идущий к Гибралтару. Красивые названия, новая жизнь где-то далеко-далеко. На этот раз я покидаю самое себя. Навсегда.
* * *
Жан Ле Гевен уже ждет меня. Поверх рубашки на его плечи накинута кожаная куртка. Он сидит в пивном баре за мраморным столиком. На табуретке, рядом с ним, лежит пакет, завернутый в коричневую бумагу. Пока я иду к нему через зал, он смотрит на меня и улыбается. Никого не беспокоить больше. Держаться бодро.
— Вы не сменили повязку?
— Нет. Не нашла врача.
— Что вы делали? Расскажите. Были в кино? Хорошая картина?
— Да. А потом прогулялась по городу.
Я держусь молодцом. А он за это время вместе с Маленьким Полем загрузил пять тонн ранних овощей. Немецкие туристы, которые привезли мое пальто, подкинули его на своей машине сюда, к вокзалу. Он записал их адрес, на днях заскочит к ним и еще раз поблагодарит. Они едут на Корсику. Там красотища, на этой Корсике, столько пляжей. Он сидит напротив меня и наблюдает за мной своими доверчивыми глазами. Он поедет поездом в 11:05 и в Лионе встретится с Маленьким Полем. Так что, к сожалению, у него всего четверть часа.
— Вам столько хлопот из-за меня.
— Если бы я не хотел, я бы не стал ничего делать. Наоборот, я очень рад, что вижу вас. Знаете, в Пон-Сент-Эспри, когда мы ворочали ящики, я все время думал о вас.
— Мне уже лучше. Все в порядке.
Он подмигнул мне и отхлебнул глоток пива. Потом попросил сесть рядом с ним на табурет. Я села. Он положил свою ладонь мне на плечо и, тихонько сжав его, спросил:
— У вас есть друзья, ну, кто-нибудь, кому вы можете сообщить?
— О чем сообщить?
— Не знаю. Обо всем этом.
— У меня нет никого. Единственного человека, которого бы я хотела сейчас видеть, я позвать не могу.