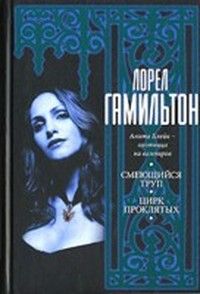Вот сволочи. Заставлять чистую еврейскую девушку переводить эту пакость!
— Напомните этим гигантам мысли, что я их об этом предупреждал! Но им так хотелось меня изнасиловать, что они не пожалели денег налогоплательщиков на этот подлый анализ!
Ну вот, хоть узнаю как на иврите «изнасиловать»… Краснеет и не переводит.
Смотри-ка, а я такая же сволочь, как и они. Такая сволочь не может не заложить тещу. И даже обязана это сделать… А я ведь не могу! Своими руками убил бы — совесть бы не мучила. А вот заложить — нет, не могу. Как-то неблагородно это.
— Они говорят, что в вашей квартире найден яд, которым были убиты все трое.
— Уже трое?!
— Две женщины и собака.
Ну все! Проклятая старческая скаредность! Правильно я от адвоката отказался. Яд в квартире — какой уж тут адвокат!
— Они говорят, что вас вызвали на очную ставку с вашей тещей.
Как это тонко! Никого мне не хочется видеть так, как ее! Хоть бы свой фирменный бутербродик с колбаской принесла, чтобы мне перед своим народом не позориться… И сына теперь в школе затравят…
* * *
Когда Софья Моисеевна, закинув ногу за ногу, улыбнулась и сказала:
— Начальник, угости попироской! — мне стало ясно, что «крыша» у нее поехала окончательно.
Переводчица, поразмышляв, как передать подтекст, решила не напрягаться и одарила тещу длинной темной сигаретой. С этой сигаретой рука тещи стала похожа на обгоревшее дерево.
Софья Моисеевна правильно назвала свои имя и фамилию, без запинки оттарабанила девятизначный номер своего удостоверения личности, но на этом, собственно, все и закончилось. Вернее, началось.
— В первый раз вижу этого мужчину! — сказала она, держа сигаретку на отлете.
— Это твоя теща? — спросил меня начальник.
— Если я ей не зять, то и она мне не теща, — сказал я, честно глядя на шефа бараньими глазами — терять мне было все равно нечего. «Савланут![14]» сказал я себе. Смертной казни здесь нет, глядишь, и найдут настоящего убийцу еще при моей жизни.
Чмокнула открытая шефом банка пива, и я попросил:
— Начальник, угости пивком!
Впервые Софья Моисеевна посмотрела на меня одобрительно.
Шеф укоризненно покачал головой и вызвал вторую «свидетельницу». Ею оказалась моя жена. Ленка влетела в кабинет и тут же споткнулась о презрительный взгляд своей матери. Наконец-то появился хоть один нормальный человек и высветил всю пошлую фальшь и идиотизм наших социальных ролей — и шефа, и тещи, и моей, и даже переводчицы.
Леночка-пеночка, веточки вен под глазами, тяжело жить, если все не по фигу.
Каждый ломается в отведенном ему судьбой месте. Неужели я был той самой опорой для нее?! Ни разу не сорвалась на визг на виражах абсорбции… Непринужденно сменила фонендоскоп на швабру… Потому что боялась — ее обвиню в приезде. Я знал, что боялась. И держал козырь при себе… Да нет, на самом деле не держал. Глупенькая, решила, что уговорила меня приехать. Как будто есть принципиальная разница… Ладно, разница есть. Особенно, в магазинах и тюрягах.
Ленка — единственный человек в мире, который боится за меня. Не за кормильца, отца ребенка, опору семьи, а просто за скота по имени Боря, которому, по большому счету, все по фигу, кроме сына… И вот она перед выбором: смолчать, что мать отравила собаку, или обменять мать на мужа. А ведь не знает еще, что в комплекте с собакой идут два трупа. В нагрузку. Поэтому все это для нее такой сюр собачий, но на еще чужой почве… И окончательно мерзко, что, думая о ней, думал о ее страхе за меня. В Совке это ласково называли эгоизмом.
— … Это ваша мать?
— Да, конечно. А это мой муж Борис. Боря?!
— Хорошо. Это ваша дочь?
Софья Моисеевна пожала плечами, как в театре «Ромэн»:
— Не знаю, я плохо вижу. Но моя дочь, как мне все-таки казалось, извините, не такая дура.
— Мама! — виновато сказала Ленка. — Пожалуйста, не надо. Мы же не дома…
— Не дома? — переломила теща обгоревшие спички бровей. — Почему? Ты мне все время рассказывала, что в Израиле мы будем у себя дома…
— Ага! — уличил шеф. — Значит, это все-таки ваша дочь?
— Молодой человек, — завела теща, — дай вам Бог в семьдесят лет точно отвечать на вопросы следователя. У меня плохое зрение, я уже сидела в тюрьме, когда ваши узники Сиона еще сидели на горшках…
— Ваши узники Сиона! — почему-то влез верзила Мики, до этого молча мерявший меня и мою мишпаху презрительным взглядом.
— А вы-таки правы, молодой человек, — теще явно захотелось отдохнуть на безопасной теме. — Они наши. В Союзе они страдали за нас, а теперь мы страдаем за них. Вы ведь меня понимаете? О чем я говорю? А вы, наверное, из Марокко?
— Ладно! — шеф явно начал нервничать. — Вы подтверждаете свое заявление, что собаку, принадлежавшую господину Бернштейну, отравила ваша мать?
Ленка покраснела и кивнула.
— Ну, Лена! — зажестикулировала теща. — Это же все-таки наша полиция.
Посмотри на этих ребят — у них-таки интеллигентные лица и умные еврейские головы. Хоть тот и из Африки. Они же прекрасно видят и все понимают, что вы решили освободить от меня жилплощадь.
— Вы отрицаете, что отравили собаку? — перебил шеф.
Теща скорбно выслушала перевод, жадно, как в последний раз, затянулась и с театральным пафосом произнесла свою коронную реплику:
— Начальник, меня уже капитан МГБ Гольдфельд в тысяча девятьсот пятдесят втором году пытался заставить сознаться в отравлениях, которых я не совершала… А ты пожиже будешь…
— Зачем ваша мать отравила эту чертову собаку?! — заорал шеф. — Вы же не настолько богаты, чтобы позволять себе такое сафари!
— Ну, мама боялась, что Боря останется без работы, — Ленка рефлекторно подошла поближе ко мне и взглядом искала поддержки. — Боря рассказывал дома, что сидит тут целыми днями без всякого дела, на компьютере играет… И мама придумала такое преступление, которое стыдно будет расследовать настоящему полицейскому… вы не думайте, мы маму очень отговаривали. Но вы же видите, какой она человек…
— Слава Богу, что Хаим не дожил! — сказала теща в пространство.
Ленка тут же заткнулась.
— Борис, изложи-ка нам свою версию гибели собаки, — ласково начал шеф, уже достаточно дошедший.
— Самоубийство! — ответил я, преданно глядя на шефа.
Мики выслушал перевод моей версии, подскочил, потом посмотрел на Ленку, Софью Моисеевну, переводчицу и шефа, махнул рукой и сел на место.
— Ну что ж, — тускло сказал шеф. — Страх потерять работу — это хоть какой-то мотив… Собака — это на недельку. Но и одного трупа тебе хватило бы надолго. Зачем понадобился второй? И ведь знал, что оставляешь улики. Может быть, ты маньяк?
Ленка, увидев, что на меня вешают трупы, как серьги, стала орать, а теща аккомпанировала ей саркастическим хохотом, пока обеих не вывели.
— Теперь понятно зачем он созвал корреспондентов, — поделился шеф с Мики осенившей его догадкой. — Мы думали, он просто придурок, а он рассчитывал закрепиться за этим делом, — шеф повернулся ко мне. — Ты надеялся, газеты разнесут, что ты расследуешь это убийство?
Вспомнив, что пока я еще еврей, я ответил вопросом на вопрос:
— Мужики, а там, где вас учили на полицейских, вам ничего не рассказывали о презумпции невиновности?
Ментальность — ментальностью, а профессионализм — профессионализмом.
Похоже, что слова «презумпция невиновности» на полицейских всех стран времен и народов действуют одинаково. Мики, набычив кучерявые голову и спину, пошел на мою фразу-мулету, канюча:
— Шеф, ну можно? Ну, пожалуйста! Ну всего один раз!
Мне стало страшно. Если совсем уж честно. А когда мне страшно, я действую и выражаюсь нелепо. Короче, я схватил хлипкий пластмассовый стул и, потрясая им, как мой дедушка зонтиком, завопил:
— Но-но! Я буду жаловаться в малый Синедрион!
К счастью, израильские полицейские — не румынские пограничники. Шеф сохранил меня для тюряги полностью укомплектованным зубами и ребрами.
— Мики, Мики, — мягко пожурил он. — Тебе мало записи в личном деле «не допускать к работе с арабами»? Если тебя нельзя будет допускать и к работе с олим, то цена тебе будет полставки.
Хорошо все-таки жить в правовом государстве…
…А теперь повторю то же самое без иронии. Хорошо жить в правовом государстве. Без иронии. С болью.
До конца дня шеф изнурял нашу семью персональными и перекрестными допросами. Он перешел с пива на пилюли. Даже Мики в углу притомился. Одна теща, натренированная на гэбистских «конвейерах», была болезненно оживлена и явно рассчитывала на ночную смену. Но ее звездным часам не суждено было превратиться в звездные сутки.
В конце дня принесли какую-то бумагу, шеф долго и грустно ее читал, еще дольше тер лоб и виски, наконец спросил: