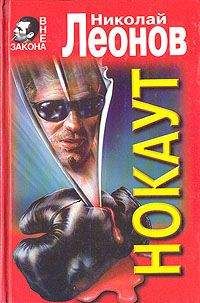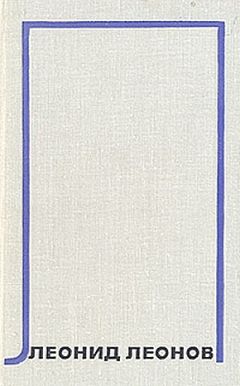В маленьком цветочном магазине Лемке никто не встретил. Он прошел через контору и оказался в просторном дворе, превращенном в розарий. У одной из клумб стоял на коленях полный седой мужчина. Он разглядывал надломленную ветку и осторожно, словно имел дело с больным человеком, пытался подвязать ветку или подпереть ее рогаткой.
С улицы доносились звуки похоронного марша.
Лемке оглядел двор, сорвал небольшую розочку, уколол палец и поморщился. Садовник наконец заметил клиента и, торопливо поднявшись и отряхивая с брюк гравий, заторопился навстречу.
– Здравствуйте, здравствуйте. Что желаете? Могу предложить чудесные розы…
Во дворе появился молодой человек в рабочей одежде, и Лемке, обойдя садовника, направился к парню.
– Не беспокойся, отец. Этот господин – мой гость, а не твой, – крикнул парень и, вытирая руки, пошел навстречу Лемке.
Садовник вздохнул, взглянул на сына, но, заметив какой-то непорядок в своем хозяйстве, вновь опустился на колени перед кустом роз.
– Здравствуйте, Вольфганг, – Лемке, улыбаясь, понюхал розу. – Вижу, у вас много работы.
Вольфганг промолчал, потер испачканные в земле ладони и спрятал их в карманы брюк.
– Вы нечасто заходите, господин Лемке.
Лемке улыбнулся и вновь понюхал розу.
– А где ваш брат?
– Хайнц! – крикнул Вольфганг, на его крик с садовыми ножницами в руках во двор вышел белокурый детина.
У похоронного бюро останавливались машины. Играл оркестр. Лемке вышел из цветочного магазина и деловито зашагал мимо похоронной процессии.
Шурик крутил ручку телевизора. Картинки сменяли одна другую. Наконец появился всадник с традиционными «кольтами» на бедрах. Шурик щелкнул всадника по носу и довольный улегся на кровать, звук он почти совсем убрал. Звук был ни к чему.
Ковбой с бесстрастным лицом, с приклеенной к губам сигаретой медленно ехал среди кактусов и не мигая смотрел на восходящее солнце. Конь, чувствуя настроение всадника, неторопливо перебирал сухими ногами; «кольты» хлопали по бедрам, услужливо подставляя шершавые ручки; голубые глаза свободно отражали солнечный свет и равнодушно ждали.
Шурик заложил руки за голову и потянулся. Парень на экране был что надо и вызывал симпатию.
Сажин вошел тихо и неожиданно, взглянул на экран и спросил:
– Сколько раундов он выдержит?
Шурик сел и спустил ноги с кровати.
Ковбой упал, лошадь поскакала, взвизгнула пуля. Ковбой проверил, не погасла ли его сигарета, затянулся, молниеносно выстрелил в сторону зрителя, вскочил на оказавшегося рядом коня и поехал мимо кактусов.
Сажин выключил телевизор и озабоченно спросил:
– Ты храпишь?
– Что?
– Я спрашиваю: ты ночью храпишь? – Сажин положил на стол портфель, который держал в руках, выдвинул ногой стул и сел.
– Я не слышал, но говорят, что потрясающе, – ответил Шурик.
– Тогда все в порядке, – Сажин раскладывал какие-то бумаги, – мы споемся. Зови ребят.
Курносая веснушчатая физиономия Шурика вытянулась, проходя за спиной тренера; он вздохнул и с сожалением посмотрел на телевизор.
– Еще надоест. Надеюсь, что ты выкроишь у телевизора время и успеешь взглянуть на Шунбунский дворец. Правда, там не стреляют сейчас, – Сажин взял лежащую на столе австрийскую непривычно толстую газету и рассеянно перелистал. С одной страницы на Сажина глянуло знакомое лицо. «Пройдет ли Пауль Фишбах в парламент?»
Шурик выскочил в коридор и заглянул в соседний номер.
– Зигмунд, шеф зовет, – сказал он Калныньшу, расхаживающему по номеру с книгой в руке. – Где Кудашвили?
– Пошел прогуляться. – Зигмунд положил книгу в карман и вместе с Шуриком вошел к Сажину.
– А Роберт? – Сажин развязывал лежащий на столе холщовый мешочек, но не мог справиться с тесьмой.
– Он гуляет. – Зигмунд взял мешочек и развязал. – Деньги?
– Когда мне нужна помощь… – Сажин прервал себя на полуслове. – Возьмите по четыреста-пятьсот шиллингов. В шиллинге сто пфеннигов. Это на карманные расходы. – Он вынул из портфеля пачку денег и бросил ее на стол.
– Шурик, я назначаю тебя кассиром, – сказал Зигмунд и щелкнул Шурика по носу.
– А если бы я был сильнее, слон?—спросил Шурик, высыпая на стол легкие никелированные монетки.
– Ты бы не был так обидчив, – Зигмунд провел ладонью по щеке и поморщился. – Кстати, предупреждаю, в Вене мужчины бреются каждый день.
– Шурик, ты слышал? – спросил Зигмунд.
Шурик беззвучно шевелил губами, подолгу разглядывая каждую бумажку и монетку, раскладывая их на четыре кучки. Зигмунд взял Сажина под руку и отвел к окну.
– Роберт нервничает, – равнодушно сказал он, – говорит: стар я и не в весе.
– А ты как считаешь? – Сажин поднял голову.
– Что я? – Зигмунд пожал плечами. – Да теперь и поздно.
– А если бы не поздно?
– Я бы взял Анохина. Он чуть слабее, но ему двадцать. Надо думать о будущем.
– Чуть? – спросил Сажин и отстранился. – Во-первых, через это «чуть» сотни спортсменов перешагнуть не могут. «Чуть» – это мастерство. Я не беру боксера на первенство Европы за то, что ему двадцать лет.
– Вы спросили мое мнение, – Зигмунд потер ладони.
– Ты сказал: думать о будущем? Я и думаю. О твоем! О его, – Сажин кивнул на Шурика. – Пока я тренер, будут ездить сильнейшие, а не перспективные. Иначе перспективные не становятся сильнейшими. Одни ждут, что их за возраст выгонят, другие – что за возраст включат.
Шурик перестал раскладывать деньги и смотрел на Сажина. Маленький и сухой, с поднятым плечом, широко расставив ноги, тот стоял перед Калныньшем и крутил пальцем перед его носом.
– Роберт сказал, что он стар. В тридцать четыре года человек считает себя старым? Он хотел услышать от тебя шутку… – Сажин подошел к Шурику и хлопнул его по затылку. – Считать разучился?.. Кстати, мне полагается на двадцать шиллингов больше. Объяснить, почему?
Шурик сбился, сложил все деньги в одну кучу и стал раскладывать заново. Сажин взял со стола пять шиллингов и пошел к дверям.
– Вычтешь, – сказал он на ходу. – Зигмунд, помоги Шурику, а то ты большим начальником стал. – Сажин хлопнул дверью и спустился в бар.
Он взял бокал светлого пива и сел так, чтобы была видна входная дверь. Зеркальные, блестящие от дождя двери крутились, пропуская людей и чемоданы, форменные фуражки рассыльных и самые разнообразные головные уборы постояльцев.
Через два столика от Сажина сидели Лемке и Фишбах.
– Да, – Фишбах поправил темные очки и, вытянув полные губы, отхлебнул из кружки. – Никаких сомнений, он почти не изменился.
– Черт меня дернул послушать вас, – Лемке подвинул к себе стакан сока и опустил в него соломинку. – А если бы мы с ним столкнулись в дверях?
– Я не мог ждать, – Фишбах посмотрел в сторону Сажина и сказал: – Не поворачивайтесь, Вальтер. К русскому подошел Карл Петцке, он тоже сидел в Маутхаузене и все не может успокоиться. Все ищет… – Фишбах грустно улыбнулся. – Все ищет, их союз мы зовем «Охотники за головами». – Он отставил пустую кружку и взял полную.
– Что нужно этим людям? – спросил Фишбах после паузы. – Как они легко судят, кто прав, а кто виноват! Они сейчас более жестоки, чем мы четверть века назад. – Фишбах посмотрел на Лемке. – Мы не убивали по своей воле, а они выслеживают нас, словно зверей. Десятилетиями идут по следу. Это гуманно?
– Ну-ну! – Лемке улыбнулся и положил ладонь на руку Фишбаха. – Вы еще не на суде, Пауль. Уйдем отсюда. За стойкой есть запасной выход.
Они поднялись и не торопясь ушли из бара.
– Карл! Карл! – Сажин рассмеялся и потрепал собеседника по плечу. – Молодчина, что приехал, я ужасно рад тебя видеть. Как Ева, как мальчишки? – Сажин щелкнул пальцами, подозвал официанта и заказал еще пива.
– Здоровы, – Карл поежился, зябко потер руки, – я мало их вижу, Миша. – Карл выглядел очень усталым. Худой, в больших роговых очках и с хохолком на макушке, он походил на маленькую вымокшую под дождем птичку. Словно почувствовав, о чем думает Сажин, Карл усмехнулся и спросил:
– Не очень я похож на героя, борющегося за справедливость?
– Ты не меняешься, Карл, таким ты был и в лагере.
– Вот именно, – Карл вздохнул, снял очки, провел пальцами по глазам и сжал переносицу, – но ведь кое-что за эти двадцать шесть лет изменилось. – Он невесело усмехнулся.
Карл вспомнил, каким Сажин был в лагере. Знаменитость! Его даже показывали гауптштурмфюреру – единственный однорукий. Кто же мог еще одной рукой выполнить норму? Из всего барака Миша был, пожалуй, самый злой. У иных на злость не хватало сил и мужества. У Миши не хватало руки…
Добрым лицо Михаила нельзя назвать и сейчас, но в нем спокойствие и уверенность. Карл понимал, что даже Михаилу нельзя полностью открыться. Он не поймет. Ему не надо искать фашистов, в России имеются хорошие специалисты, Михаил спокоен. У него другие заботы и другие дела. С него сняли это бремя, и он свободен. Наверное, Миша считает, что Карл все еще мстит и увлечен таким паскудным делом.