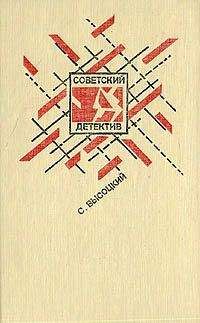...Мы свернули картину трубкой и запеленали в мягкую цветастую материю. Перевязали бечевкой. Она и без рамы была тяжелой. На улице, прикрутив рулон с картиной к саночкам, мать с трудом распрямилась и покачала головой. Картина выглядела словно мертвец, которого везут на кладбище. Только тех заворачивали в белые простыни или одеяла, а не в яркую цветочками фланель. Но делать было нечего. Не возвращаться же домой за новой оберткой?
Мы взялись за веревку и потихоньку поехали. На углу Третьей и Среднего какая-то старушка перекрестилась, глядя на сверток. Может быть, покойник в таком пестром покрывале показался ей кощунством.
Мама думала, что дядя Коля поможет нам втащить картину. Но он отказался. В тот раз впервые я стоял на пороге его квартиры. Буквально несколько секунд. Но их хватило мне, чтобы уловить запах еды.
В этот день нас ждал страшный удар — мать вышла ко мне сама не своя: дядя Коля потребовал привезти раму.
— Может быть, он и прав? — задыхаясь, через силу говорила она. — Где ему найти такую красивую и большую раму? Только надо было сразу сказать!
Как бы ни был я мал, но понял, что с рамой нам не справиться. Не поднять, не поставить на санки. Да наши маленькие санки и не годились для такой громадины.
Усталые, молчаливые, мы вернулись домой. Не затопили «буржуйку» — не было сил. И варить на ней было нечего. Дневные пайки хлеба мы съели утром. Надеялись на дядю Колю.
А утром я проснулся и увидел, что мать, ползая на коленях вокруг рамы, пытается отвернуть какие-то винты. Оказалось, что рама скреплена металлическими уголками. В первую минуту я обрадовался. Это же так просто! Отвинтим уголки, разберем раму и отвезем дяде Коле.
Какое изнурительное дело — вывинчивать старые, ржавые, просидевшие, может быть, сто лет в прочном, словно камень, дереве, винты!
Шестнадцать винтов. Отвертка скользила с противным скрежетом, срывалась с винта, оставляя лишь легкие царапины на металле. Не было сил прижать ее так, чтобы хоть немного стронуть винт с места. Только бы чуточку вылез он из своей берлоги! Тогда можно зажать его плоскогубцами и крутить, крутить, крутить, с радостью ощущая, что хоть и туго, но винт поддается.
Казалось, эту работу мы не закончим никогда. Но вот последний винт, с приросшими к нему ошметками дерева, падает рядом с другими. Мама целует меня.
...Ей стало плохо, когда мы возвращались от дяди Коли. Она села прямо на сугроб и стала судорожно расстегивать пальто, срывать с себя платок.
Я стоял рядом и кричал сквозь рыдания:
— Мамочка, не надо! Мамочка, не надо!
Что было дальше, я помню плохо. Маму везли куда-то на санках, я шел рядом...
...На какое-то время я перестал себя ощущать. Это был не обморок, не забытье. Я ходил, разговаривал а вошедшей в комнату Софьей Николаевной как во сне. Ощущение реального вернулось в тот момент, когда, сидя за столом и помешивая ложечкой в чашке, я говорил ей:
— У вас замечательный дом. Такие книги, прекрасные картины...
— Эта, — Софья Николаевна кивает на картину с парусником, — работы неизвестного голландского мастера. Шестнадцатый век...
— А мне показалось, что это Тернер...
— Вы ошибаетесь, — почему-то радуется она. — Манера очень близкая. Особенно море. Эту картину, когда папа был жив, просили продать Эрмитажу. Предлагали какую-то баснословную сумму. Но он отказался...
Ее папа умер... Нет дяди Коли. Интересно, давно ли, думаю я и сам удивляюсь. Какое это имеет значение? Хотя нет, имеет. Мне хочется знать, насколько дольше моей мамы он прожил.
— Почему отказался? — спрашиваю я. Кофе она приготовила прекрасный, и поджаренный хлеб с сыром кажется мне очень вкусным. — Разве не приятно видеть в музее восхищенных людей у картины, которая когда-то принадлежала вам? А назойливые разгильдяи перестанут ломиться к вам в дом!
Она смеется и смотрит на меня ласково. У нее ласковые глаза. Это я заметил сразу. Ничего не заметил, только ласковые глаза. Я знаю, что нравлюсь некоторым женщинам. Правда, недолго. Что-то отпугивает их.
— Он хотел ее подарить... При условии, если повесят табличку о том, кто подарил... Папа был чуточку тщеславным. Особенно в старости. — Она улыбается грустно и ласково.
Он хотел подарить картину музею... Подумайте только — он хотел! В один прекрасный день я мог увидеть свой парусник в Эрмитаже с табличкой: подарок дяди Коли. Проклятье! Я даже не знаю его фамилии. Ее фамилии. Хотя у нее уже давно другая.
— Папа всю жизнь собирал книги и гравюры. Коллекция гравюр у нас изумительная. Ее тоже хотели купить. Для Русского музея, для Музея-квартиры Пушкина. Я вам покажу. Вы оцените.
Я пью кофе, шучу, веду себя как заправский бонвиван. Софья Николаевна мило принимает мою дурацкую трепотню. Мне только этого и надо.
Я страшно не хочу уходить! Моментами, когда я, отрываясь от кофе и светского разговора, пристально гляжу на картину, у меня пропадает ощущение реальности, уши словно забиты ватой. Голос Софьи Николаевны едва доносится до меня. Какой-то неизвестный голландский мастер написал это ночное море, скалы, парусник. И вот уже сотни лет светит единственное окошко на паруснике самым разным людям — хорошим, плохим, «таксебесым», как говорила моя мать.
Почему так несправедливо устроен мир — эта красивая женщина с добрыми глазами показывает мне нашу — мою! — картину, с моим парусником, и я жалкой болтовней пытаюсь продлить свое пребывание рядом со своей картиной.
А я не лукавлю? Тридцать лет я прожил без нее и, если бы не случай, никогда не увидел. Может быть, мне не хочется уходить из-за добрых темно-карих глаз Софьи Николаевны, Сони. Нет, это было бы несправедливо перед памятью матери — остаться. Она умерла из-за этой картины, а я мило болтаю с хозяйкой.
В конце концов при чем здесь Софья Николаевна? Она ничего не знает. Ее отец, дядя Коля, был крупный коллекционер; всю жизнь испытывая тягу к прекрасному, он занимался собирательством, он создал уникальную коллекцию.
Он даже занимался благотворительностью.
Голодным людям он давал хлеб в обмен на никому не нужные в блокадном городе книги и гравюры. Он, может быть, помог мне выжить. Он не знал, что у мамы больное сердце, иначе не попросил бы ее везти эту дурацкую раму. Прекрасную раму. Без нее неизвестный голландец очень бы проиграл. Таких рам и в Эрмитажа немного. Ну, конечно, картина в Эрмитаже. И с табличкой о том, что зимой сорок второго Леокадия Александровна Боброва продала эту картину за буханку хлеба и банку сгущенки известному коллекционеру и ценителю прекрасного дяде Коле?
— Ваш папа был искусствовед? — спрашиваю я Софью Николаевну.
— Нет. Он был инженер. — Она смеется. — Совсем как вы. Вы же тоже представились инженером. Папа был инженер-путеец. Строил железные дороги. Всю жизнь разъезды. Любил книги, живопись... Привозил со всех концов страны редкие книги, гравюры. Знаете, в захолустье иногда можно встретить удивительные вещи.
И не только в захолустье, думаю я. Главное — купить их за бесценок. А во время блокады забросить свои железные дороги и пристроиться на продовольственном складе. И скупать, скупать, скупать...
— Сначала это было увлечение. Потом он занялся искусством всерьез. Собрал почти все книги о Петре Первом. У него были редкие рукописи...
Интересно, с таким ли воодушевлением ты рассказывала бы мне обо всем этом, если бы знала, как добывал твой папа, эти книги и картины? Как гладко она все это излагает! Словно заправский экскурсовод. Может быть, сюда, в квартиру дяди Коли, водят экскурсии?
...— О нем даже писали в книгах, — продолжает Софья Николаевна. — Его имя вам наверняка знакомо. Черкезов Николай Борисович. На него есть ссылки в «Иконографии Петра Первого» и «Русской акварели». Черкезов! Наконец-то я узнал его фамилию. Как же, как же, слыхали! Кто бы мог подумать. Черкезов — дядя Коля!
— Знаю, знаю! — улыбаюсь я. — У меня есть «Русская акварель». Видите ли, уехав из Ленинграда, я восполняю потерю книгами о нем...
— Ах, вы тоже ленинградец! — радуется она.
Пора уходить. Какие-то волны временами сжимают мне голову. Я начинаю бояться — не было бы плохо.
Да и хозяйка мне нравится. Чем дольше я сижу здесь, тем меньше во мне ожесточения. При чем здесь она? Ведь дети за отцов не отвечают! Кто придумал эту мудрую фразу? И когда?
Но дети должны знать, что натворили их отцы. Их деяния... Чтобы не повторять... Не повторять — чего? Их ошибок? Я совсем запутался. Я не в силах сейчас решить — сказать или не сказать? Мне надо подумать.
Я прощаюсь. Смотрю внимательно ей в глаза, благодарю. Даже целую ручку. Мне надо подумать.
— Будете в Ленинграде, милости прошу. Пороетесь в книгах. Папа собрал очень много по искусству, — говорит мне Софья Николаевна. — Я в Москву выбираюсь редко. Только летом. А так — лекции, лекции...
Ах, она преподает. И хочет, чтобы я дал ей свой телефон?
...Я снова делаю круг по залу ожидания. Сдавать мне билет или не сдавать? Ведь надо же сказать ей правду! Тогда она пойдет в Эрмитаж, в Русский музей, отнесет мой парусник, гравюры, книги.