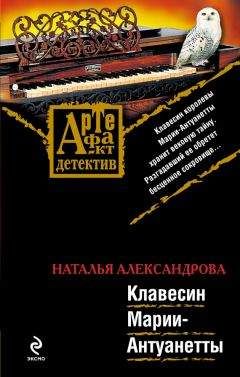Посреди комнаты стоял стол, накрытый алой бархатной скатертью. На нем лежали темные карты с непривычным рисунком, стоял бокал рубинового стекла и темная запыленная бутылка.
В углу комнаты шевельнулся какой-то сгусток тьмы. Марии Антоновне померещилась огромная черная собака, лежавшая на полу. Она изумленно вгляделась и тут же с облегчением поняла: то, что она приняла за собаку, была брошенная на пол меховая ротонда, крытая черным бархатом.
Мария Антоновна привычно подняла руку, чтобы перекреститься на икону – но тут же в испуге опустила ее: то, что сперва показалось ей обыкновенной иконой, было потемневшей от времени гравюрой в черной деревянной рамке. Гравюра изображала высокую женщину в черной мантии, немного напоминающую саму мадемуазель д’Аттиньи. На плече этой женщины сидел ворон, у ног бежала огромная черная собака с оскаленной пастью.
– Хорошо, что вы пришли, сударыня, – проговорила гувернантка непривычно решительным, даже властным голосом.
Она поставила на стол оплывшую свечу в простом медном подсвечнике, предварительно запалив ее от лампады. Затем подняла со стола темную бутылку, налила из нее в бокал рубиновое вино, протянула его Марии Антоновне:
– Выпейте, сударыня!
– Но я вовсе не хочу пить…
– Выпейте, если хотите узнать свою судьбу!
Нарышкина нерешительно взяла бокал, поднесла его к губам. Сама удивляясь собственной покорности, отпила немного. Вино было очень странным, ей прежде не приходилось пробовать такого. В нем был привкус полыни и тимьяна, душистых осенних яблок и чего-то едва уловимого, давно забытого. Мария Антоновна вспомнила свое далекое детство, родительское имение под Краковом…
Старая гувернантка, внимательно вглядевшись в лицо Марии Антоновны, отвернулась, подошла к столу и бросила в пламя свечи щепотку какого-то серебристого порошка. Огонь вспыхнул ярче, выбросил сноп разноцветных искр. В комнате запахло пряно и волнующе – осенним полем, ночным садом, таинственным лесом…
И мадемуазель д’Аттиньи совершенно преобразилась. Куда подевалась старая гувернантка, приживалка и наушница? Перед Нарышкиной стояла высокая, властная, сильная женщина. Что же до возраста – она могла быть и молода, и стара как сам мир.
– Услышь меня, госпожа, услышь меня, повелительница! – заговорила женщина в черном высоким, сильным голосом. – Услышь меня, Геката, обутая в красное, повелительница перекрестков, дочь Аристея! Услышь меня, владычица лунного света! Ты, бегущая по земле, не приминая травы, ты, рыщущая в темноте, преследующая свою добычу в ночи! Ты, блуждающая среди могил, трехликая, змееволосая! Услышь меня, Геката, матерь тьмы, повелительница колдовства! Заклинаю тебя черной собакой, черным вороном, черной змеей!
Произнося эти дикие, кощунственные слова, мадемуазель повернулась к гравюре, словно бы обращалась к изображенной на ней женщине. И та преобразилась, как будто вышла из деревянной рамы и поплыла в сгустившемся воздухе полутемной комнаты – поплыла к изумленной Нарышкиной…
Мария Антоновна забеспокоилась, приложила ладони к вискам: голову внезапно словно сдавили железными обручами, в ней нарастала тяжкая, мучительная боль. Сильный и звучный голос француженки заполнял комнату, как прибывающая невская вода во время наводнения, ввинчивался в голову Нарышкиной, раздражая ее и мучая…
Мадемуазель д’Аттиньи снова подошла к ней, уставилась на хозяйку в упор своими глубокими черными глазами:
– Пейте, сударыня! Вы должны непременно выпить все это вино, если хотите узнать…
– Узнать – что? – переспросила Нарышкина.
Француженка не ответила.
Мария Антоновна снова поднесла бокал к губам. Она сделала глоток, еще один… Вкус вина изменился… да полно, вино ли это? Каким странным зельем угощает ее старуха?
Она уставилась на мадемуазель д’Аттиньи.
Из-под черного покрывала, в которое зябко куталась гувернантка, свесился кулон на тонкой золотой цепочке. Мария Антоновна разглядела странный узор из темного старинного золота: вертикальный ромб, а в нем – полумесяц и ключ.
Кулон странно притягивал ее, он завладел ее сознанием. Он медленно, ритмично, как маятник, раскачивался из стороны в сторону, и взгляд Нарышкиной послушно следовал за ним. Мария Антоновна почувствовала сильное головокружение. Она хотела что-то сказать, хотела прервать странный обряд…
Но вдруг полутемная комната гувернантки растаяла, исчезла.
Мария Антоновна была теперь совсем в другой комнате – в комнате, спертый воздух которой дохнул на нее запахом старых вещей, запахом нежилым и неуютным. Комната эта была заставлена слишком тесно – несколько стульев, канапе с львиными лапами, кресла красного дерева, секретер, бюро, письменный стол с бронзовой чернильницей и очиненными перьями, ночной столик со свечою в бронзовом подсвечнике. На стене – итальянские картины, «Богоматерь» и «Архангел Гавриил», часы, остановленные на половине первого.
Чуть в стороне – китайские шелковые ширмы, полинялые, с едва заметным рисунком.
Боясь чего-то, Мария Антоновна шагнула вперед, заглянула за эти ширмы.
Там стояла узкая походная кровать с откинутым одеялом. На простыне, на одеяле темнели пятна…
Старые пятна крови, поняла Мария Антоновна.
И как только она поняла это – странная комната растаяла, исчезла.
Теперь Нарышкина видела как бы с высоты птичьего полета огромную площадь, запруженную народом. Здесь были ремесленники, рабочие, мастеровые, отпущенные на оброк мужики, мелкие чиновники, школяры, подмастерья… она не слышала ни звука, но все рты раскрывались, будто что-то выкрикивая, а все глаза, все лица были повернуты в одну сторону – в середину площади, где ровным и страшным квадратом, ощетинившимся штыками, стояли солдаты и офицеры в форме Московского полка. Перед строем разъезжал генерал в парадном мундире, он так же беззвучно что-то кричал, то ли убеждал в чем-то солдат, то ли уговаривал их, размахивая тонкой, какой-то несерьезной шпагой. Вдруг из рядов выдвинулся высокий офицер, ударил лошадь генерала штыком, она прянула в сторону. В то же мгновение мелькнула вспышка беззвучного выстрела, и генерал, покачнувшись в седле, неловко завалился и повис, застряв ногами в стременах.
И тотчас, как будто этот выстрел был сигналом, ощетинившееся штыками каре качнулось, как единое существо, и медленно, целенаправленно двинулось вперед – туда, где в морозном декабрьском тумане возвышалась громада Зимнего дворца…
И вся площадь, закипев беззвучными криками, потекла следом за восставшим полком.
Видение исчезло так же неожиданно, как появилось, только в голове Марии Антоновны прозвучал странный голос:
«Восстание. Декабрьское восстание. Войска восстали против законного государя».
Мария Антоновна снова была в тускло освещенной комнате старой гувернантки. Мадемуазель д’Аттиньи стояла перед нею все в том же черном одеянии, но в ней не было прежнего величия. Она снова казалась вздорной, незначительной старухой, притащившей из своей Франции не только множество никому не нужных старых вещей, но и груз своих заблуждений и предрассудков.
Однако Мария Антоновна, находившаяся под впечатлением своих видений, спросила гувернантку дрожащим от волнения, прерывающимся голосом:
– Что это было?
Гувернантка высвободила худую смуглую руку из черного покрывала, указала на гравюру, освещенную тусклым кровавым светом красной лампады:
– Владычица ночи, великая Геката, показала вам грех и расплату!.. Тяжкий грех, совершенный близким вам человеком, и расплату, которая ждет его самого и его семью, если он не раскается в содеянном и не искупит своего греха!
– Грех и расплату?.. – как эхо, повторила за ней Мария Антоновна.
Лиза открыла глаза и огляделась. Они ехали по Петроградской стороне, в ее глухом краю, примыкающем к Каменному острову.
– Эй, а куда мы едем? – окликнула она водителя.
– Все нормально, – ответил тот, не поворачивая головы.
– Что значит – нормально? – Лиза напряглась. – Мне же нужно к Пяти Углам…
– Так лучше ехать, – на этот раз он скосил на Лизу совиные глаза. – Я не хочу попасть в пробку…
– В пробку? – переспросила Лиза. – Какие пробки в такое позднее время?
– Ну, я хотел сказать, что там ремонт… вся дорога разрыта… Да не беспокойтесь, довезу в лучшем виде!
– В лучшем виде? – переспросила Лиза. – Высадите меня здесь!