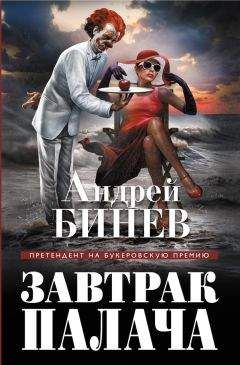Пана Кремера это наконец отрезвило. Другие сотрудники, а их было двое мужчин и две женщины (не считая самой Евы), поглядывали на него с тихими усмешками, а он смущенно покрывался испариной. Он совсем недавно женился на своей бывшей секретарше, ради которой бросил нервную жену-диетолога и двоих маленьких детей. Все становилось очень двусмысленным и крайне неприятным.
Однако пан Кремер оказался человеком неглупым. Он решил, что избавиться от Евы Пиекносской сейчас, по крайней мере, неприлично и в то же время невыгодно. Поэтому тоже стал относиться к ней, как листок бумаги, случайно оказавшийся рядом. То есть вполне естественно. Без эмоций и участия. Все поначалу расстроились, потому что потеряли повод для своих тайных развлечений, а потом свыклись.
Ева даже не заметила изменений. Она упрямо продолжала существовать в том последнем мгновении, когда отпустила ручку своего дитя, поудобней усадив его на заднем сиденье автомобиля бывшего мужа, и на прощание заглянула в глаза ребенку. Так дитя и осталось в ее памяти — маленькая, слабая ручка и чуть испуганные глазки, похожие на ее собственные. Жизнь для Евы замерла, казалось, навсегда в этой роковой точке.
Но однажды, поздним вечером, в офис, где она несла свое бессменное дежурство, вошла высокая статная шатенка лет сорока пяти, роскошно облаченная, с изысканным королевским макияжем, бесценными украшениями на руках, на шее и в ушах. Был конец февраля, и на плечах дамы элегантно возлежало нежно-голубое манто из русского песца.
Она остановилась на пороге, негромко стукнула высоченными каблуками о паркет и приветливо махнула Еве тонкой рукой. Ева подняла на нее безразличные ко всему глаза и будто очнулась от долгого сна. Ей показалось, что в ее серое, высохшее пространство смертной скуки заглянула пышная, наполненная роскошью и успехом жизнь из иного измерения, о котором она когда-то что-то слышала — еще до того, как в последний раз коснулась ручки своего ребенка. Она и тогда не была допущена в то загадочное измерение, но все же ощущала его далекое присутствие трепетными рецепторами своих фантазий. Тех легких фантазий, что оборвались в одночасье, так и не став реальностью.
Хотя такое вполне могло когда-то случиться, не будь той страшной катастрофы. Возле нее после развода с мужем долго крутился немолодой седовласый режиссер из польской национальной телекомпании. Некий пан Владек Радецкий. От него и его друзей веяло именно таким миром — элегантным, по-королевски небрежным, с оскорбительными для посторонних приметами снобизма и аристократичности, с роскошью вседозволенности и в то же время — ответственности за какое-то особенное, утонченное дело. Тот мир холодно источал гонор наследственной властности и богатства.
Но тогда, после гибели ребенка, и пан Радецкий, и его родовитые друзья, и вообще весь мир и все измерения исчезли для Евы, будто никогда не существовали. И вот теперь в дверь офиса, во мрак ее тоскливого вечера, вошел этот далекий фантазийный мир, обдав Еву запахом неведомых ей духов. Первый цвет, который этот мир внес в ее пространство, был нежным голубым цветом песцового манто, а уж затем — страстной густотой темно-карих глаз роскошной дамы.
Дама, покачивая округлыми бедрами, обтянутыми синим атласом узкого, сужающегося на щиколотках платья, не спеша подошла к столу Евы и медленно опустилась на стул из дешевого черного кожзаменителя. Еве показалось, что стул немедленно обратился в элегантную, родовитую мебель, даже не скрипнув своим неуклюжим металлическим каркасом, как обычно.
Ева и дама стали молча рассматривать друг друга.
Дама наконец приветливо улыбнулась и произнесла низким грудным голосом:
— Ну вот, милочка, в ваших глазах вновь сверкнула любопытством забытая вами жизнь.
Ева засмущалась этим неожиданным замечанием и, вопреки привычке последних лет, не побледнела, а вспыхнула. Похоже, жизнь действительно возвращалась к ней таким странным образом — в серой мути февральского вечера, в тоскливой атмосфере офиса небогатого турагентства. Тут ей очень некстати вспомнились «случайные» прикосновения пана Кремера, и она тоже усмехнулась от внезапности этого чувства.
Дама перегнулась через стол и осторожно притронулась к руке Евы.
— Я первая жена пана Радецкого. — Она внимательно заглянула в глаза Еве. — Называйте меня пани Эльжбета Зайончковская. Это моя девичья фамилия.
Ева смущенно отдернула руку и исподлобья посмотрела на пани Эльжбету.
— Ну что вы, пани Ева! Владек много рассказывал о вас. Мы ведь с ним остались друзьями. А вы знаете, милая Ева, что Владек теперь живет в Париже, бросил телевидение и занялся кинематографом? Режиссер он так себе, скучноватый, по-моему, а вот продюсер определенно хороший. Он шлет вам поклон, дорогая Ева.
Еву удивило, что пан Радецкий еще помнит ее, хотя она сама забыла не только его, но и всю жизнь, которая была до гибели ребенка.
— Видите ли, дорогая Ева, — объясняла пани Зайончковская, — я бы не стала к вам обращаться, если бы один наш общий знакомый… то есть ваш и наш с Владеком, не приобрел бы как-то у вас путевку в Китай, в Шанхай. Это — француз месье Адам Лурье. Возможно, вы его помните? Высокий такой красавец сорока пяти лет… Год назад ему именно столько было.
Ева пожала плечами и ничего не ответила.
— Ну как же, милая? Он еще пожаловался вам перед отъездом, что страдает хронической бессонницей. А вы посоветовали ему обратиться в Шанхае за помощью к партнеру вашей компании. Кажется, к доктору Ге Тьо?
Ева на этот раз кивнула. Она действительно рекомендовала доктора Тьо, старого знакомого пана Кремера, с которым они однажды из-за чего-то поссорились, но все же сумели сохранить партнерские отношения.
В туристическом бизнесе вообще очень трудно приобрести и сохранить партнера. Я это знаю, потому что лет восемь назад сам попробовал заняться этим делом. Партнеры подводили так часто и так по-крупному, что я не продвинулся ни на йоту в этом «веселом» деле. Более того, задолжал одному банку и вынужден был продать все, что у меня тогда было, чтобы не вздрагивать от каждого звонка или стука в дверь. Я поклялся больше никогда не встревать в эту индустрию. Так что партнер — это, пожалуй, самое важное.
Доктор Ге Тьо из Шанхая был тем не менее надежным партнером, хоть и плохим другом. Но партнер никогда не бывает другом. Другом может быть только тот, с кем у тебя нет расчетов. Дружба и прагматизм всегда находятся в непримиримом противоречии друг с другом.
Доктор Тьо сыграл в жизни Евы Пиекносской, по существу, роковую роль. Судьба чуть было не передала ее сначала в порочные руки пана Радецкого, а потом — его первой супруги, опытнейшей великосветской интриганки пани Эльжбеты Зайончковской. Поэтому важно понять, кто такой этот Ге Тьо.
Он взял фамилию матери-китаянки из семьи ученых-историков, пострадавших во время «культурной революции». Отец же его был греком, родом с Крита, долгие годы занимался археологическими раскопками в Сиане[17]. Поговаривали, что именно он первым предположил, что где-то в этих местах спрятана та самая знаменитая терракотовая армия, о которой из поколения в поколение передавались легенды. Но он так и не смог закончить свои исследования, потому что как раз незадолго до открытия той глиняной армии, в семьдесят четвертом году, был выслан из Поднебесной обратно в Грецию как шпион империализма. И это, несмотря на то что всю жизнь придерживался крайне левых взглядов и даже в свое время имел на родине крупные неприятности из-за этого.
Его незаконнорожденного сына, которому на момент высылки отца было всего двенадцать лет, родители назвали Гермесом. Оформить брак с китаянкой власти не позволили. Поэтому мальчишке дали фамилию матери — Тьо, а имя сократили до короткого звука — Ге. Он так и жил, называясь Ге Тьо.
Вскоре ученый грек умер — угорел во время пожара в своем доме в критском городке Aghios Nikolaos[18]. Приблизительно в то же время в Шанхае от воспаления легких скончалась мать Ге Тьо. Мальчишка остался на попечении дядьки по линии матери, ходил в школу, занимался английским, греческим и польским языками, а также мечтал последовать делу китайской и греческой родни, то есть заняться археологией и историей.
Преподавал ему языки бывший польский ксендз, осевший в Китае во время долгого правления великого кормчего Мао Цзэдуна. Бывший ксендз работал учителем рисования в школе, куда ходил маленький Ге.
Он не сумел научить Ге прилично рисовать (этот дар не был дан ребенку), зато обучил трем языкам, которые сам знал блестяще, — английскому, греческому и родному польскому. Но ксендза в конце концов уличили в склонности к педофилии и арестовали. Возможно, что-то такое и было, потому что Ге очень изменился в период своего созревания, став особенно чувственным, даже женственным, но в то же время и необыкновенно скрытным.