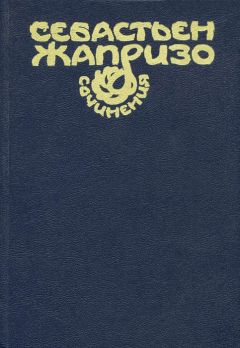— Писать не будешь?
— Некогда.
— Понятно. Ты сейчас человек занятой.
— Жатва, — подтвердил дядя Гриша.
— Спасибо вам.
— Не за что.
— Есть за что, — сказал мальчик негромко.
— Если так считаешь, я рад. Когда домой собираешься?
Мальчик взглянул на дядю Гришу.
— Куда спешить, — сказал тот. — Еще поработаем.
— Ну, счастливо потрудиться!
Он первым протянул мне руку.
А мы с дядей Гришей остались за столом.
Я, признаться, тоже ожидал приглашения ко сну — и сам умаялся за жаркий день, и он потрудился. Но дядя Гриша почему-то не торопился.
Помолчали. Я допил чай с медом и водил ложкой по пустой чашке. А он вроде бы ждал чего-то, изредка поглядывая на открытые окна дома, где уже потушил свет Толя.
— Покурим?
— Я не курю.
— Да, я вижу. Ну, я покурю, с вашего разрешения. Луна-то какая, видите?
Луна в самом деле была роскошная, полнолунная, щедрая на голубой свет, оттенявший черные вершины деревьев, но, честно говоря, на восторги не тянуло, тянуло ко сну, однако в голосе дяди Гриши я уловил нечто большее, чем дань красотам природы, на которые он насмотрелся с избытком. Что-то другое у него на уме было, даже курить не спешил, чему я был в душе рад, потому что табачный дым не терплю, особенно в такую чистую тихую ночь.
— Я, собственно, сказать хотел вам кое-что.
— Я так и понял. О мальчике?
Дядя Гриша бросил еще один взгляд на окно и понизил немного голос.
— О нем.
— Есть трудности? — спросил я тоже тихо.
— Как сказать… Он тут тайник сделал. Я случайно наткнулся. Конечно, чужие секреты нехорошо… но так уж получилось. Посоветоваться нужно.
— Что же в тайнике?
— Бумага одна. Вы почитайте, ладно?
«Бумага», которую принес дядя Гриша, оказалась пачкой листков, соединенных канцелярской скрепкой. На первый взгляд это были наброски, черновики письма со множеством помарок и поправок. Однако почерк был разборчивый, и это облегчало чтение.
Сначала было написано: «Дорогой Толик!»
Потом «дорогой» зачеркнуто.
Потом вычеркнуто все обращение и сверху написано просто: «Сынок!»
И еще раз исправлено.
«Сын!
Не знаю, как тебе и написать. Лучше бы не писать, чтоб ты не знал ничего, но так может быть, что я жить скоро перестану, а тебе еще предстоит, и я хочу, чтобы ты про отца все знал и моих ошибок не совершил.
Но как писать? Это трудно, Толик. Не получается даже в голове коротко и ясно. Ладно, буду писать, как придется, а потом поправлю, если что не так.
Мне, Толик, жить больше не надо, так или иначе, мне выхода нет. И ты не убивайся, пожалуйста. Все люди умирают, кто раньше, кто позже. Вот пойдешь на кладбище, там сам увидишь — и дети там, и молодые, кому сколько пришлось — кому как положено».
Последняя фраза была зачеркнута.
«Как началась моя беда? Давным-давно. С того дня, как я ростом не вышел. Ты удивишься, конечно, ведь меня высоким считают. Но это с точки зрения нормальных людей. А для баскета я оказался недомерком.
Да, Толик, я был такой же подросток, как ты, и играл в баскетбол. Мне это нравилось, сынок, просто нравилось. Весело было, когда мяч в кольце. Красиво, а у всех лица разные. Свои радуются, обнимают, болельщики хлопают, а у других морды вытянутые… Заметили меня, и сам я не заметил, как попался на удочку. Перспективный спортсмен! Так меня называли, а ведь мальчишка был, как ты, школьник. Мозги куриные. Ты не обижайся, у тебя лучше с мозгами. Ты ученый, может, будешь. И я не дурак был, физику любил, тянулся к машинам. Но они мне не дали. Я это поздно понял, что судьба моя без меня решается.
Конечно, это красиво. Форма спортивная, соревнования, поездки. В гостинице командировочные раскладушки клянчат, а мы в номере, на них свысока смотрим. Мы на соревнования приехали, честь защищать…
И девчонки, конечно, к нам тянулись. Мы ведь рослые, старше выглядели. Твоя мать тоже… Но с ней, Толик, ты должен сам разобраться. Она — мать, и это вопрос сложный. Я с ней и счастливый был и несчастный. Скоро по вас удар большой по моей вине будет, и я ее охаивать права не имею.
Как говорится, в смерти моей прошу никого не винить».
Эта фраза была подчеркнута.
«Короче, я в этот спорт погрузился и не замечал, что отметки мне уже не за знания ставят…
Я, Толик, злой на учителей, зачем они это делали! Зачем портили? Неужели им так спортивная честь дорога была, что они и меня, и себя, и всех обманывали? Я же не занимался совсем, а они ставят… Я и говорю потому, куриные мозги. Человек к благополучию легко привыкает. И к двойному счету легко, то есть себя по одному ценит, а других по другому. Я тоже ценил себя так. Что вкалывать? Да меня любой институт с руками оторвет, лишь бы руки мяч кидали. Там и буду учиться всерьез. Я в автодорожный хотел, Толик. Думал, там и буду учить то, что надо. А сейчас главное — спорт. Зачем мне мура такая, как литература, история, география? Что мне эта Татьяна Ларина или Потемкин с его деревнями фальшивыми! А то, что сам я потемкинская деревня, не думал, конечно.
А может быть, так и проскочил бы, но рост подвел. Остановился. Хороший, но не для баскетболиста. Так я и очутился в десятом классе у разбитого корыта.
А эта сволочь, Филиппыч, тренер наш, меня утешил:
— Ты, Борис, не горюй. Не всем же спортсменами быть. Спорт тебе пользу принес, физическое развитие, волю закалил, а теперь ты человек самостоятельный. У нас для всей молодежи дороги открыты.
Я его, гада, недавно под пивной видел, пиво водкой разбавлял, руки трясутся, горлышко о кружку дробь выбивает. Стал алкаш хуже меня. Так ему и надо. За всех нас. Разве он меня одного с дороги сбил?»
Тут обрывалась третья, недописанная страничка, и видно было, что следующая начата после перерыва.
«Перечитал я все это, Толик, и думаю. Хнычу я чего-то. Расплачиваться за ошибки нужно, а не хныкать. Ты пойми, я на жалость твою не бью. Я правду пишу, чтобы тебя предостеречь. Дороги, правда, открыты, но для оболтусов не все. Поэтому, сынок, семь раз отмерь — один отрежь. А я не мерил вообще. Сказали — перспективный, и обрадовался. Хоть на Олимпиаду, хоть в институт… Не тут-то было. Вышло, что в институт сунуться не с чем. Я-то рассчитывал, что меня туда по ковровой дорожке с мячом под мышкой… А оказалось, что ни ростом, ни башкой не вышел. И учителя, оказалось, не такие уж болельщики были. А Марина — мама ее знает — вообще рассчиталась. Но я ее, Толик, не виню. Я ведь ее предмет за муру держал. Ей обидно было, но, пока перспективный, обиду при себе держала. А как посыпался, она меня на прощанье припечатала.
Короче, сам знаешь, Толик, что в институт я не попал.
Но, конечно, это еще не значит, что жизнь меня тогда погубила. Наоборот, жизнь хороший шанс давала. Взяли в армию, там мотор, любимое дело. Но тут нужно понять, что ты как раз родился. Тут сложно, Толик…
Когда я распрощался со спортом или он со мной — так вернее, мы с твоей матерью дружили, учились в одном классе. Она самая красивая девчонка считалась, одевал ее твой дед как следует. Мне нужно о ней хорошее сказать. Когда меня признали неперспективным… Сначала перспективным, а потом уже неперспективным… Она меня не бросила. Короче, я ее очень любил, и она меня из армии ждала. Это я помню, Толик, и ты знать должен. Но тут ты родился. Вернулся я из армии, снова хотел в институт, а я ведь уже родитель.
Ты пойми, Толик, правильно, я никого, кроме себя, не виню ни в чем, но ведь не мог я к твоему деду на шею садиться. У меня своя гордость есть. И теперь даже есть, а тогда больше было. Особенно потому, что дед был при деньгах, хотя сам тоже в вузе не учился.
Он мне так и говорил:
«Я институт не кончал, а живу в достатке».
Конечно, он нас запросто поддержать мог. Он даже больше чем в достатке жил, хотя дед твой не жулик, в торговле можно так жить, чтобы иметь достаточно и не сесть. Не нужно зарываться только. Он и дом построил, и в достатке был, а всегда уважаемый был человек. Потому что меру знал и не переступал. И меня учил:
«Человек умный всегда прожить может. Дурак тот, кто не может, и тот, кто очень богатый хочет быть, тоже дурак».
Выходит, я дурак, Толик. Но это потом, а тогда я просто гордый был и на его деньги жить не хотел, чтобы в меня пальцем не тыкали: был спортсмен, а теперь от магазина кормится. Я работать решил. Я хотел, Толик…»
Последние слова он зачеркнул.
«Я, Толик, не хотел. Я всегда одного хотел, чтобы тебя человеком вырастить, чтоб ты дальше моего пошел, потому что голода у тебя светлая, чтоб тебя люди уважали.
А теперь получается, что тебя подвести могу. Но не подведу. Перед тобой я ошибки свои исправлю.
Ты знаешь, я после армии водителем работал. Водитель я, сам знаешь, какой. Жили нормально. Вернее, я теперь понимаю, что нормально, а тогда меня точило.