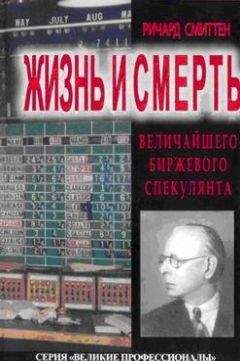Павел Бодзячек отворачивается от молодежи и смотрит в другую сторону, более безопасную. Он ощупывает взглядом зал и останавливается то у столика с людьми из «Культуры», то «Литературы», потом цепляется за «Творчество», задерживается рядом с компанией из «Поэзии» или «Литературного ежемесячника»… Однако нигде он не находит для себя безопасной и радушной пристани. Все крутятся в своих маленьких замкнутых хороводах, как ощетинившиеся гусеницы дубовки, о которых так интересно рассказал Хмуре старый профессор.
А ведь чуть-чуть было не удалось Павлу Бодзячеку залучить себе компаньона на этот вечер, чтобы сообща повздыхать о «трудной ситуации в литературе и безнадежной — в кино». В кафе быстрым шагом влетел Ромуальд Дудко. Оглянулся, ища свободное место и кого-то, с кем договорился здесь встретиться. Павёл Бодзячек уже приподнялся со стула, уже приглашает жестом журналиста за свой столик. Но Дудко улыбается мимолетно и отвечает ему издалека взмахом руки — полуизвиняющимся, полуотрицательным, а в сущности оскорбительным. Что за корысть для Дудко — афишировать свое знакомство с таким человеком, как Бодзячек? Бодзячек проиграл свою партию и опускается все ниже, а Дудко все еще держится на поверхности — как говорят, такое не тонет. С широко раскрытыми объятиями направляется он сначала к киношникам, потом низко кланяется дамам-писательницам, а потом, вроде бы случайно, подсаживается к молодежи. Дудко прекрасно знает, куда и откуда ветер дует, у кого в руках ключ от будущего и с кем лучше всего брататься в такой ситуации. Сегодня он — лучший друг молодежи, советчик и «свой парень».
Лицо Бодзячека становится серым. Не опуская протянутой руки, он меняет характер жеста. Он вовсе не приглашал Дудко за свой столик. Он всего лишь призывал пани Стаею, чтобы заплатить за кофе, ему пора домой.
Он идет к выходу, прямой, надменный, ни на кого не глядя, с выражением горькой задумчивости на благородном лице.
Кто там еще оставался в Джежмоли? Ах, да, Катажина. Я вспомнила о ней, взглянув на Трокевича. Его солнце светит ясно, а солнце Славомира Барса закатилось. Трокевич, правда, не купил Джежмоли, ему стиль не подходит. Зато он унаследовал Катажину. Говорят, она очень довольна своим новым хозяином. Она привыкла к творческим людям, ее не пугают капризы и причуды гения. Тем более что Трокевич ведет холостяцкий образ жизни, он разошелся с женой. Катажина поставила лишь одно условие никаких кошек. И чтобы предотвратить всякие неприятные сюрпризы, добыла где-то пса, не то легавую, не то овчарку. И, говорят, совершенно счастлива.
Виллу в Джежмоли купил некий представитель частной инициативы, производящий пластмассовые амулеты — скелетики, которые трясут костями, если потянуть за веревочку, мордочки чертей, которые высовывают красные язычки, стоит только сжать их пальцами. Новый хозяин выбросил все негритянские, индейские и мексиканские экспонаты, а коллекцию бабочек подарил школе, которая носит имя заслуженного политического деятеля. Он устроил себе дом в старопольском стиле, на стенах — старинные гобелены и кривые сабли, тканые крестьянские пояса, рыцарские щиты с образами божьей матери. У него грандиозная коллекция медной посуды. «Тоже красиво» — как говорят пастухи в Татрах.
Я разглядываю писательское кафе из своего уголка, словно из маленького отдаленного окопа. И думаю: вот с несколькими из них случилась когда-то история, в тайну которой я проникла благодаря капитану Хмуре. Но разве это было какое-то необычное, исключительное происшествие? Разве не знаю я других несчастливых островов, где жить страшно и душно, где один роет яму для другого, где бродят Иоланты, осознающие безнадежность своего положения — и не всегда в этом виноватые… Такая история могла произойти и в какой-нибудь театральной компании, и в литературных кругах, среди музыкантов или ученых. Всюду есть хороводы ядовитых гусениц, и беда тому, кого замкнут они в своем кругу.
Но надо же верить во что-то, как сказал Хмура, вычеркивая Анджея Прота из списка подозреваемых. Во что бы мне тут поверить?
Кафе пустеет. Те, что выпили свой кофе и устроили все свои дела, уходят, толпятся в гардеробе, толкутся вокруг единственного телефона-автомата. Те, что обедали в столовой, приходят выпить кофе или чай.
На пороге полупустого кафе останавливается семья Протов. Мариола, встряхивая гривой смолисто-черных густых волос, бежит, спеша занять удобный столик, который только что освободили актеры. Михал разваливается в кресле, как персидский шах. Агнешка капризничает, хочет мороженого, которое здесь не подают. А ромовую бабу она не хочет, просит маковый торт. Я смотрю на них, и вдруг мои глаза встречаются с глазами — очень синими и очень взрослыми. Анджей Прот спокойно и критически оглядывает зал. В этом мальчике чувствуется какое-то внутреннее равновесие. В этом возрасте? Кого-то это может удивить, а меня — нет. Глаза Анджея словно спрашивают меня о чем-то. Не знаю, смогла бы я ответить на его вопрос, но мне бы очень хотелось, чтобы мы хорошо понимали друг друга. И если человек должен кому-то верить, то я хочу верить именно ему.
Ежи Эдигей
Случай в тихом поселке
Под утро дождь прекратился.
Но тяжелые свинцовые тучи, набухшие от дождя, а может быть, и от снега, затянули небо. Казалось, они вот-вот зацепятся за вершины росших за кладбищенской стеной тополей.
От дома гроб несли подчиненные и друзья покойного, а также жители Подлешной, которые знали старшего сержанта милиции Владислава Квасковяка и наверняка не раз прибегали к его помощи. Несшие гроб люди менялись часто, каждому хотелось отдать последний долг начальнику отделения милиции в небольшом поселке под Варшавой.
За гробом шли дети: два сына и дочь покойного. Жену, лицо которой скрывала черная вуаль, вел под руку уездный комендант милиции из Рушкова. С другой стороны ее поддерживал светловолосый, прихрамывающий на правую ногу молодой человек. Это был брат покойного — Януш Квасковяк, известный футболист, получивший травму в последнем матче с «Ураганом» из Воломина.
В траурной процессии участвовало человек триста — каждый десятый житель Подлешной был на кладбище, хотя похороны происходили среди недели, в полдень. Ничего удивительного: Владислава Квасковяка здесь знали и любили. Кроме того, похороны жертвы преступления всегда вызывают интерес, в особенности если эта жертва — комендант местного отделения милиции. Ну а зевак всегда хватает, даже если предметом их любопытства является чужое горе.
Гроб пронесли через кладбищенские ворота, траурная процессия остановилась у свежевыкопанной могилы. Началась обычная церемония. Прощальное слово произнес заместитель воеводского коменданта милиции полковник Неголевский. Он говорил о заслугах Квасковяка в борьбе с преступностью, борьбе, за которую старший сержант заплатил жизнью. Полковник выразил уверенность, что преступник будет найден и понесет заслуженное наказание.
Потом говорили председатель поселкового совета Адам Рембовский и от Общества друзей Подлетной доктор Зигмунт Воркуцкий.
Наконец наступила тишина. По крышке гроба застучали комья земли. Могильщики выровняли холмик из желтого песка, уложили на него венки и цветы. К вдове подходили знакомые и незнакомые, произносили обычные слова сочувствия, целовали руку и покидали кладбище.
Немного в стороне от происходящего, невидимый за крестами и памятниками, стоял мужчина в темно-сером плаще. Высокий, волосы с проседью, лицо в морщинах. На вид ему было лет шестьдесят пять, а то и больше. А ведь всего лишь четыре года назад ему исполнилось пятьдесят. Только когда он сделал несколько шагов с целью получше разглядеть окруживших гроб людей, сторонний наблюдатель мог бы заметить пружинистые, энергичные движения, выдававшие человека сильного и тренированного.
Никто из собравшихся на кладбище, за исключением нескольких работников милиции, не знал этого человека. Он один не подошел к открытой могиле, не бросил на гроб символической горсти земли, зато с явным интересом разглядывал присутствовавших. Он вглядывался в каждое лицо, словно стараясь его хорошенько запомнить.
В определенный момент, вслушиваясь в шорох песка о крышку гроба, незнакомец криво усмехнулся и произнес то ли себе под нос, то ли обращаясь к стоявшему рядом с ним молодому человеку:
— Возможно, что и убийца явился на кладбище, чтобы бросить горсть земли на могилу своей жертвы?
— Если и бросил, то — камень, — ответил юноша.
— Камень? Почему именно камень?
— А вы не знаете? — удивился спрошенный. — Еще в средние века считали, что землю на могилу бросают друзья покойного и все, кто к нему хорошо относится, враги же кладут камни.
— И в самом деле, — рассеянно подтвердил незнакомец.

![Иоанна Хмелевская - Бабский мотив [Киллер в сиреневой юбке]](https://cdn.my-library.info/books/184651/184651.jpg)