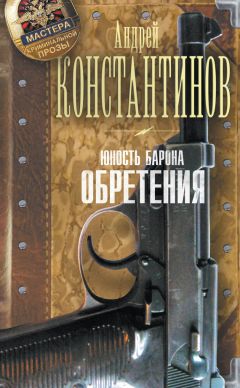Посчитав свою задачу выполненной, вражеские самолеты улетели, сопровождаемые запоздалым ответным огнем наших зениток.
Из шести вышедших на маршрут грузовиков на ходу остались только два. Старший колонны принял решение собрать в них детей, женщин с грудными младенцами и раненых и как можно скорее отправить их на Большую землю. Остальным предстояло остаться в ожидании прибытия нового транспорта. И пока мужчины пробивали в снежной целине объезд полыньи, в которой затонула головная полуторка, началась погрузка, сопровождаемая истошным детским плачем и женскими причитаниями.
Самарину совсем не климатило несколько часов проторчать на морозе. Подхватив на руки Оленьку и не забыв при этом про оба счастливо уцелевших чемодана, он решительно протиснулся к грузовику.
— Товарищ начальник! Я… я не могу отправить дочку одну. У нее шок, и она, кажется, тоже ранена. Ее надо срочно к врачу.
— А почему вы, а не?.. Где ваша жена?
— Она погибла.
— Сочувствую.
— Так как же, товарищ начальник? Очень уж плоха девочка наша.
— Ну хорошо. В порядке исключения, раз уж и девочка тоже… Грузитесь. Э-э! Да бросьте вы уже свое барахло! Тут людей сажать некуда, а он!..
Самарин покорно поставил чемоданы на снег и подсадил Оленьку к борту, где ее приняли дети постарше. Дождавшись, когда начальник колонны отвернется, он ловко забросил в кузов один из чемоданов (самый ценный, с продуктами и с тщательно спрятанной Юркиной «платой за проезд») и шустро, что та обезьяна, вскарабкался следом.
— Алексеич! — через пару минут крикнул водителю старший колонны. — Всё! Полны коробочки! Трогай!
Две полуторки, провожаемые тревожными взглядами остающихся взрослых, отправились в путь, осторожно огибая место гибели головной машины.
— Ленинградцы! Приказываю отставить сырость! Через три-четыре часа машины вернутся и доставят вас к вашим чадам. А пока — разбирайте борты, станем костры разводить. Иначе доставлять некого будет. Замерзнем на хрен!
— По прибытии оказалось, что перебраться на другой берег Ладоги — это даже еще не полдела, а четверть. Почти двое суток мы провели на станции. Холод, жрать нечего. Поезда, которые в тыл, сплошь санитарные, гражданское население не сажают. Но я чувствовал ответственность за судьбу больного ребенка. И когда на станцию прибыл очередной эшелон, решил снова попытать счастья.
Перешагивая через железнодорожные пути, Самарин шел к санитарному поезду, волоча за руку Ольгу. Малышка не поспевала за взрослым: хоть и старательно шаркала-семенила ножками, но постоянно спотыкалась, раздражая Самарина и этим, в частности, и самим фактом своего существования, в целом. Еще бы! В одночасье сделаться вдовцом с чужим ребенком-хомутом на шее, положеньице — хуже не придумаешь.
Левая рука Евгения Константиновича крепко сжимала ручку чемодана, с которым он не расставался ни на минуту…
— Стой! Гражданским лицам не положено! Эшелон санитарный.
— Товарищ боец! Вы нам не подскажете: в каком вагоне начальник эшелона?
— Товарищ Потапова?
— Да-да, именно.
— А вам она зачем?
— Нас к ней направил. Начальник станции, — соврал Самарин.
— Ну, если направил, тогда третий вагон с головы.
— Огромное вам спасибо. Идем, Лёлечка…
— Начальником поезда оказалась тетка лютая. Эдакая баба с яйцами. Вам наверняка знаком, Владимир Николаевич, подобный типаж?
— Знаком.
— У такой даже снега зимой не допросишься. Так что в процессе нашего непростого общения я несколько раз менял тактику: сначала требовал, взывал к совести и к клятве Гиппократа, затем унижался, практически бухался наземь и ползал перед ней на коленях. И в конечном итоге уломал…
— Товарищ Потапова! Но вы же врач! Вы же понимаете, что сейчас творится с дочкой! На ее глазах погибла мать, она сама чудом осталась жива. Посмотрите — у нее же дистрофия! Если бы вы только знали, какой ад творится в Ленинграде…
— Я знаю. И очень хорошо вас понимаю. Но, голубчик, у меня тяжелых раненых некуда девать. Уже не говорю за условно легкие случаи.
— Я… я отплачу. Честное слово, — озираясь по сторонам, Самарин сунул руку за пазуху и вытащил золотую цепочку с кулоном. Ту самую, что красовалась на шее Елены в тот день, когда дом Алексеевых впервые посетил Володя Кудрявцев. — Вот, это вам.
— Да как вам не стыдно! — негодующе вспыхнула военврач. — А еще ленинградец!
— Извините, — пряча и глаза, и цепочку забормотал Самарин. — Это… Это какое-то помешательство на меня нашло. Понимаете, я ради дочки… Я жене перед смертью слово дал, что довезу ее, спасу.
Военврач Потапова присела перед девочкой и ласково пожала детскую ладошку:
— Как тебя зовут, малышка?
Ольга с молчаливой, болезненной отрешенностью посмотрела на женщину, и, казалось бы, безнадежно израненное, давно огрубевшее сердце военврача переполнилось жалостью.
— Её зовут Лёля, — услужливо подсказал Самарин.
— Лёлечка, солнышко… Да, у девочки определенно шок.
Начальник эшелона выпрямилась, вздохнув, достала из планшетки клочок бумаги и огрызок карандаша, черканула несколько строк:
— Вот, с этой запиской проходите в первый вагон, там у нас чуть посвободнее, в основном неходячие. Удобств, разумеется, не обещаю, но до Молотова доберетесь. Как быстро, сказать не могу. В идеале дней через пять-шесть.
— Товарищ Потапова! Вы!.. Как хоть зовут-то вас, спасительница? Я за вас Богу молиться стану!
— Не стоит тратить время на такую ерунду. Если Бог в самом деле существует и допустил всё это, тогда я, скорее, обращусь к дьяволу. Лишь бы тот поскорее прибрал к себе Гитлера и всю его… — Военврач грязно выругалась. — Поторопитесь, товарищ Самарин, скоро отправляемся. До свидания, Лёлечка, поправляйся скорее…
— Казалось, уж теперь-то все самое страшное позади. Но, когда через двое суток мы остановились в Галиче, нас поджидало новое несчастье.
— Вас обоих? Или все-таки одну только Ольгу?
— Ах, не передергивайте, Владимир Николаевич. Тем более мне и без того непросто заново переживать события того рокового дня. Так я продолжу?
— Сделайте одолжение.
— Я строго-настрого приказал девочке не выходить из вагона, а сам пошел на станцию.
— Зачем?
— У нас заканчивались последние продукты, и я решил попробовать выменять у местных что-нибудь из съестного.
После долгих, мучительных колебаний, взвесив все возможные риски и последствия, Самарин, наконец, решился.
— Слышь, браток! — обратился он к лежащему на полке напротив безногому танкисту. — Мы, пожалуй, сходим с дочкой, прогуляемся. Надо бы ей свежего воздуха глотнуть.
— Завидую белой завистью. Только далеко не отходите. Я слышал, народ гутарил, что здесь недолго стоять будем.
— Пойдем, Лёля. Погуляем немножко, — потянул девочку за рукав Самарин.
Ольга послушно и молча поднялась, за эти два дня она так и не произнесла ни единого слова.
— Слышь, а чумодан-то тебе на кой? — удивился-хохотнул танкист. — Думаешь, свистнут? Не боись: тут у нас, в вагоне, такой народ подобрался, что далеко не унесут. И рады бы… — танкист резко посмурнел, — и рады бы, да не в чем. Уносить. И не на чем.
— Это я так, на всякий случай. Может, удастся у местных что-то из барахла на еду обменять, — нашелся с ответом Самарин…
Народу в станционном здании было столько, что яблоку негде упасть. (Иное дело — откуда бы здесь ему взяться, яблоку? В этом жутком и лютом феврале 1942-го?)
Евгений Константинович с трудом сыскал Ольге местечко на широком подоконнике и контрольно огляделся по сторонам: нет ли кого поблизости из их вагона?
— Посиди здесь, я скоро приду. А то, видишь, сколько людей? Как бы тебя, такую малявочку, случайно не затоптали…