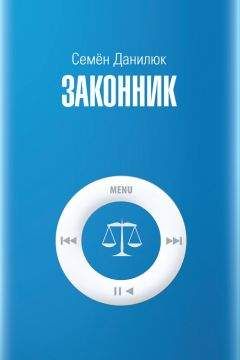– И – что с того? – Гулевский догадался, к чему клонится разговор, и разом взмок. – Если вы это обнаружили, то знаете, что лечение она проходила в связи с черепно-мозговой травмой, полученной в результате автоаварии. Там же потеряла мужа и неродившегося ребенка. Удивительно, что вообще выжила. Но ныне она полностью вменяема и способна отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Можете побеседовать с лечащим врачом.
– Можем, конечно! – подтвердил Мелешенко. – Но надежней провести стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.
Всё-таки, – он заглянул в листик, на котором Гулевский разглядел шапку наркодиспансера, – диагноз больно серьёзный.
– Надеюсь, любезный, вы шутите? – Гулевский предостерегающе прищурился.
Мелешенко с огорченным видом развел руки.
– Вы что же, всерьез собираетесь бросить свидетеля!! в психушку?! – Гулевский в гневе вскочил. – Это не семидесятые годы, и она не диссидент, с которыми боролась советская власть. У вас нет ни законодательного, ни морального права помещать в психбольницу безвинного человека! Слышите?!
Начальник следствия вскинул, наконец, голову. Гулевский разглядел под очочками упрямое выражение.
– Послушайте, Мелешенко, – стараясь выглядеть внушительно, произнес он. – Вы ж молодой человек. Только начинаете карьеру. Неужто сами не понимаете, что вам отвели роль пешки под сдачу? Дело это громкое, на слуху. Да и я не отступлюсь, пока не добьюсь справедливости. Ведь, исполняя чужую волю, вы рушите собственное будущее. Пусть не сию минуту. Но позже, когда политический климат переменится.
Аргумент оказался неудачным. Напряженное выражение на лице следователя разгладилось. Стало очевидно, в перемену политического климата он верил так же мало, как в январские подснежники. Потому что твердо знал, что подснежники появляются только весной, когда из-под сугробов «полезут» зимние трупы.
– Вы так накидываетесь, профессор, что можно подумать – всё зависит от меня, – произнес он насмешливо.
– А от кого же?
– Да от вас! Вы сами ради собственных амбиций гоните девчонку на муки. Прекратите принуждать её ко лжи, и – никакой экспертизы не понадобится.
– Если решишься на такое, я тебя так ославлю по миру, что собственные дети твоей фамилии стыдиться станут! – пригрозил Гулевский.
– Только не тяните. А то как бы поздно не оказалось, – как ни в чём ни бывало, напомнил следователь. – Почеловечней бы надо быть. Мне и то дурёху эту жалко.
Из следственного комитета Гулевский вышел словно обезвоженным. Прежде в нём теплилась надежда на то, что огласка, которую получило дело, заставит противную сторону отступиться. Отныне иллюзии оставили его. То, что он услышал, и есть позиция власти – ни за что ни под каким нажимом не выказывать и тени слабины. Для власти безопасней прослыть жестокой и неправедной, нежели смешной и малосильной.
Отступаться не собирался и он. И дело давно было не в личной обиде. Но в чем прав Мелешенко, – всему есть цена. Истина по делу – штука важнейшая. Но и она не стоит того, чтобы поломать судьбу двух доверившихся ему женщин.
Гулевский уже дважды получал Е-мэйлы из Германии от Машевича. В последнем письме Машевич написал, что обстоятельства его дела бурно обсуждаются правовым сообществом. Международная ассоциация юристов даже подготовила соответствующее заявление и воздержалась от опубликования только из боязни доставить неприятности самому Гулевскому. Но готова обеспечить содействие в Страсбургском суде. Поэтому его приезд на Запад был бы очень желателен. Гулевский и сам понимал, что возможности добиться справедливости внутри России для него исчерпаны. А значит, обстоятельства просто выталкивают за рубеж.
Но как же трудно признаться любимой женщине, что защитить её ты оказался не в состоянии. И всё, что способен предложить, – уехать вместе из страны. Из своей страны.
Гулевский с тяжелым сердцем открыл дверь квартиры, не зная, как сказать о полученном ультиматуме. Беата опередила его.
– Илюша, ты станешь сердиться, – выпалила она, едва он переступил порог. – Конечно, я виновата, что не согласовала с тобой. Но я все-таки вышла на ВИП’а, о котором говорила.
Беата умоляюще припала к нему.
– Фамилия его Томулис. Слышал, конечно? Сегодня сам перезвонил. Сказал, что хочет с тобой увидеться. Не согласился даже, а именно – захотел.
Лицо Гулевского свело судорогой.
– Ты что, его знаешь? – догадалась Беата.
* * *Это было последнее дело следователя по особо важным делам Гулевского. Уже был готов приказ о зачислении его в адъюнктуру Академии МВД, а Гулевский всё не мог закончить в суд многоэпизодное дело о групповых хищениях в Управлении рабочего снабжения Ленинградского речного пароходства. Давно были предъявлены все обвинения, арестованы основные фигуранты, начальство раздраженно напоминало: громкое дело заждались в суде. Но Гулевского не оставляло ощущение, что за сановными фигурами проворовавшихся руководителей скрывается незримый кукловод, эдакий подпольный Корейко, к которому и сходятся все нити.
Лишь когда начал подпирать республиканский срок по делу, Гулевский неохотно засел за обвинительное заключение. И тут при инвентаризации малюсенького поселкового магазинчика с торговым оборотом в две тысячи рублей обнаружились излишки дефицита аж на тридцать тысяч. Тогда-то и всплыла фамилия старшего товароведа Йонаса Томулиса.
При первом же допросе Томулис Гулевского поразил. Крупный, неспешный, со вкусом одетый прибалт не заискивал, не старался, как другие, понравиться следователю. Напротив, разглядывал Гулевского с насмешливым прищуром прозрачных глаз. Предложение чистосердечно покаяться его развеселило.
– Сколько? – коротко спросил он. Гулевский угрожающе переменился в лице. Движением пальца, обутого в богатый перстень, Томулис остановил его.
– Мальчик! Оно тебе надо? – произнес он тоном, каким говорят с заигравшимися детьми. – Ты герой, испёк горяченькое дельце. А со мной у тебя один геморрой. Тебе кажется, будто я и есть главный тайный человек в пароходстве? Но никто подтвердить такого не сможет. Тогда из-за чего корячиться? Из-за мелочи, что нашел? Излишки и есть излишки. Бог его знает, откуда взялись. За них не посадишь. Станешь доказывать хищение, зубы обломаешь… Что ты мне тут своим законом мозги намыливаешь?.. Верю, что многих пересажал. При твоей-то ретивости. А ты мне лучше, если у нас на честность пошло, признайся, скольких тебе посадить не дали…
Вот то-то! Потому что закон твой – для тех, кто под ним. А кто на крыше, туда уж не дотягивается.
Он озабоченно глянул на золотой «Роллекс».
– Короче, двадцати тысяч хватит? Если нет, торг уместен. А то у меня ещё встреча…
Гулевский пошел за продлением в союзную прокуратуру. И через два месяца, «загоняв» инвентаризаторов, ревизоров и экспертов, доказал, что Томулисом за счет пересортицы похищено и свезено в магазинчик для последующей перепродажи товара на восемь с половиной тысяч. Логично было предположить, что и остальной обнаруженный дефицит похищен таким же способом. Больше того, агентурные данные подтверждали, что Томулис действительно тот, кто разработал и отладил схему разворовывания пароходства. И, конечно, положил в свой карман многажды больше, чем жалкие по его масштабам тридцать тысяч. Просто доказать это официально никак не получается. Уж больно ловок оказался. И уже само начальство, войдя в раж от праведного гнева, требовало, чтобы Томулису было вменено хищение всех обнаруженных тридцати тысяч. Доказано-не доказано, – всех! А уж суд его, голубчика, от души приголубит. В этом-то Гулевский не сомневался. Но здесь лежал законодательный водораздел. Хищение свыше десяти тысяч рублей квалифицировалось как особо крупное и относилось к числу «расстрельных».
А доказать-то удалось лишь восемь с половиной. И хоть скрежетал зубами Гулевский, против закона не пошел. В результате всех исполнителей осудили по «расстрельной» статье. Главному же организатору было предъявлено обвинение лишь в «обыкновенном» хищении.
Уже в следственном изоляторе, подписав последний протокол, Томулис отодвинул дело от себя.
– Не понимаю таких людей, – заявил он, выцеливая из-под косматых бровей следователя. – От начальства наверняка за волокиту схлопотал. Кодлу всяких – разных спецов от дел отвлёк. Сам два месяца не спал-не пил. И – для чего?! Хоть бы для ордена! А так… Что в голове у людей? Сам жить не буду, только б другому не дать. Тебе что, свербело меня посадить? Разве серийного убийцу поймал? Ведь, если глубже копнуть, сажать надо тех, кто ворует с убытку, а не с прибыли. Не было б меня, и воровать было б нечего. Вот бы о чем таким как ты задуматься. Фитюльку себе придумали из закона и пляшут вокруг, будто язычники!