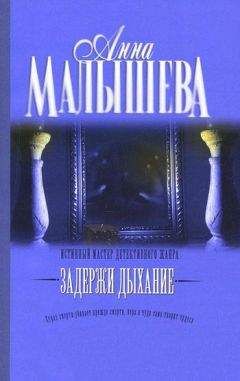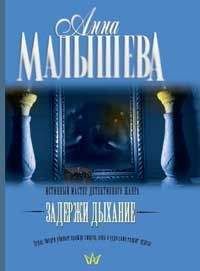Деревню окружала пустыня, песчаные ребристые дюны, которые ветер гладил то по шерсти, то против. Дюны каждый день менялись, а вот небо – нет. Оно было очень бледным, высоким, почти бесцветным. Я ни разу не видела ни единого облачка. Ни разу не пошел дождь. Ночью небо начинало меня пугать, таким оно казалось чужим и незнакомым. Особенно гнетущее впечатление производило на меня то, что я видела в нем Землю. Крохотный, жемчужно светящийся шарик среди искаженных, совершенно незнакомых мне созвездий. Тех же самых, на которые я смотрела с Земли, только в другом ракурсе. Когда я увидела планету по имени Земля, я была очень близка к тому, чтобы заплакать. Мне хотелось бежать, но бежать было некуда. Я чувствовала себя ребенком, которого родители оставили на дополнительный сезон в лагере и ни разу не навестили. Отчаянно хотелось домой, но я знала, что это невозможно.
Наши ужины. Мы всегда ели втроем – хозяева и я. Я сидела с ними за одним столом, ела то же, что они, – сухое печенье из большой стеклянной вазы. Пила коктейли, всегда очень холодные. Когда я привыкла к ним, они стали казаться разными. А сперва я не различала их по вкусу. Ничего иного мы ни разу не ели.
За ужином мы почти не думали друг с другом. Хозяин ел очень мало. Разжевывал два-три печенья и все. Я помню его непроницаемый, отсутствующий взгляд, немного печальное выражение лица. Печальное и замкнутое, как у покойника в гробу. В такие минуты я остро ощущала, что ему очень много лет. Наверное, больше, чем я могу себе представить. Хозяйка ела почти жадно и, похоже, немного стеснялась своего аппетита. Ее живот был уже заметен.
Наши мысли. С хозяином я почти не думала. Если я задавала вопрос, он или отвечал прямо и предельно сухо, или думал, что не хочет отвечать. В конце концов, я просто перестала к нему обращаться. Во время этих бесед я ощущала свою временность, конечность. Для него не имело никакого смысла думать с кем-то, кто скоро умрет. Он ничего не делал впустую. И я думала со своей хозяйкой.
Наверное, до беременности она, как все марсиане, была замкнутой. Но сейчас она чувствовала себя тревожно. Вероятно, поэтому я часто замечала на ее лице какие-то эмоции. Как и мой хозяин, она не умела и не любила лгать и старалась отвечать на все мои вопросы. Я задавалась еще одним вопросом (конечно, только глубоко про себя): любят ли они друг друга? Я никогда не замечала между ними ничего похожего на ласку. Он не брал жену за руку, не гладил ее великолепные черные волосы, ни разу не поцеловал. Думал с ней столько, сколько необходимо, чуть больше, чем со мной. И тем не менее они ждали ребенка.
Именно о ребенке мы с ней чаще всего и говорили. Как-то я спросила, почему для благополучного созревания плода необходимо присутствие землянина?
Хозяйка ответила, что марсиане – очень древняя раса. Она слышала, будто в прежние эпохи в землянах не нуждались. Но потом что-то начало меняться. Женщины беременели все реже, предельный срок беременности становился с веками все короче, и наконец, нормальными родами стало считаться то, что некогда называлось поздним выкидышем. Сделалось очень трудно доносить дитя и родить его живым, способным дышать. Она, конечно, не думала прямо, что их раса вырождается. Как все марсиане, хозяйка была очень горда своим происхождением. Но из ее объяснений следовало, что теперь для благополучного разрешения от бремени необходимо, чтобы ребенок во чреве матери постоянно ощущал волны существа другой расы. Человека с Земли.
– На Марсе теперь рождается один ребенок в пятьдесят лет, – честно подумала она. – Это очень мало. Весь Марс знает, что я беременна, и все ждут, когда я рожу.
Я также узнала, что они живут дольше людей в два-три раза. Что мой хозяин, по земным меркам, уже миновал двухсотлетний рубеж. А она еще очень молода. И что на Марсе уже давно нет больших городов, все живут в подобных поселках. Я хотела подумать: «Вы вырождаетесь», но не смогла. Это было не так. Они не походили на вырождающийся народ. Ни на распутных римлян периода упадка, ни на опустившихся жителей покоренной Византии, пасущих свиней на развалинах дворцов. Ни на погибающее от голода и болезней африканское племя, ни на гниющих от жира и безделья таитян. Они не вырождались. Они просто очень давно существовали. Их кровь понемногу остывала, лица становились малоподвижными, возможно, отмирали какие-то чувства. Но они старились медленно, не быстрее, чем старится целая планета. Их Марс.
Однажды хозяйка меня удивила, потому что сама задала вопрос. Это произошло впервые. Она спросила, как беременеют и рожают на Земле. Я подробно рассказала об этом, начав с полового акта. Хозяйка слушала, затаив дыхание, даже чуть приоткрыв рот. Она была невероятно похожа на землянку, а я нарочно рассказывала расчетливо и спокойно, наслаждаясь этим контрастом. Если бы хозяин увидел нас в этот миг, он был бы неприятно потрясен.
– Как же вам повезло! – подумала она, когда я закончила рассказ.
– Почему?
– У наших мужчин ничего подобного нет, – призналась она, почти улыбаясь. – Мне было бы интересно посмотреть…
Так я узнала, что марсиане лишены того, что мы называем первичными половыми признаками. Мужчины и женщины в этом смысле устроены практически одинаково, и эти органы служат им не для совокупления, а только для отправления естественных нужд.
– Как же вы зачинаете детей?! – изумилась я.
– Если бы мы знали, то могли бы рожать больше, – грустно ответила она. – Это случается само собой, или не случается вообще. Это…
Она подумала что-то вроде «чудо» и удивила меня еще больше. Я не подозревала, что такая рациональная раса, как марсиане, знакома с этим понятием. И тогда я впервые задумалась, такие ли уж они бесстрастные педанты, как мне казалось сначала. Непорочное зачатие, безгрешное супружество… Для землян это, в самом деле, чудо, символ святости. Для марсиан это, наверное, беда. Беда, о которой не спорят, из которой ими, возможно, создан очередной повод для гордости… И которая заставляет их идти на убийство землянина, чтобы сохранить жизнь еще не рожденному ребенку. И разве не чудо, что маленькому марсианину необходимо ощущать волны человеческой мысли, земного тепла, чтобы сформироваться и выжить? Впрочем, всеобщая телепатия – уже вполне достаточное чудо, чтобы удивляться чему-то еще.
В тот вечер, когда вернулся хозяин, к нам пожаловали гости.
Они приходили в строго определенный день. Я бы сказала «день недели», если бы они считали время неделями. Но день всегда был определенный. Я уже знала его и ждала. И как сейчас, я помню эти вечерние собрания, так непохожие на земные. Признаюсь, вспоминая их, я ощущаю какую-то ноющую тоску. Беспричинную, почти унизительную, ведь я была только незначительной деталью этих сборищ. Чем-то вроде системы жизнеобеспечения для своей хозяйки. Но никто, никогда не дал мне этого понять ни взглядом, ни мыслью. Они были безупречны. И я вспоминаю их с тоской.
Мужчины садились вокруг большого стеклянного стола и начинали играть в перья. Зрелище, на земной взгляд, странное. Восемь-десять мужчин, одетых в черное, сидят вокруг стола, безучастно глядя на лежащие перед ними цветастые перья. Никаких птиц на Марсе я не видела, но перья были, несомненно, естественного происхождения, а не поддельные. Наверняка старинные и очень дорогие. Прикасались к ним крайне бережно, с уважением. В этой игре было что-то аристократическое, играли в нее только мужчины. Правил я так и не узнала (подозреваю, что моей хозяйке они также были неизвестны), но внешне игра заключалась в том, что время от времени кто-то протягивал руку и перекладывал какое-то перо на другое место. После этого все опять глубоко задумывались, бог знает о чем. Это было бы смешно, если бы не производило впечатления глубокой серьезности. Что-то вроде шахмат, десять игроков за одной доской, и полное безмолвие. Я не слышала в это время их мыслей. Они думали про себя.
Кстати, когда я привыкла к телепатии, меня перестал удивлять эффект, который возникал во время этих вечеринок. В гостиной находилось человек двадцать, а то и больше. Они думали друг другу – как люди друг с другом говорят. Но мысли – это все-таки не слова, они не заглушают друг друга, не путаются, как голоса при обычном разговоре. Гул множества мыслей был удивителен, я слышала всех сразу и понимала каждого в отдельности без всякого труда. Это было очень необычно, пока не стало простым, как все на Марсе.
Женщины обсуждали хозяйственные проблемы, здоровье и больше всего беременность моей хозяйки. Беременность была здесь предметом невероятной гордости. Я, мое происхождение, мое присутствие не обсуждались никогда. Но меня не игнорировали, вовсе нет. Если бы я «задумала» с кем-то из гостей, мне бы обязательно ответили. Безупречно вежливо и с готовностью. Но я не делала этого. Никогда. Ни разу.
Как одевались на Марсе мужчины, я уже сказала. Женщины придерживались примерно тех же пуританских взглядов на моду. В доме собирались представители местной буржуазии, но я ни разу не увидела ни на одной женщине украшений. Никаких излишеств, ни кружев, ни перьев, ни мехов. Никаких отделок на платьях. Платья были сшиты по фигуре, не слишком короткие, не очень длинные. И всегда однотонные. Черные, белые или голубые – неизменно однотонные. Тот же принцип соблюдался во всем – никаких узоров. Цвет в чистом виде, и только.