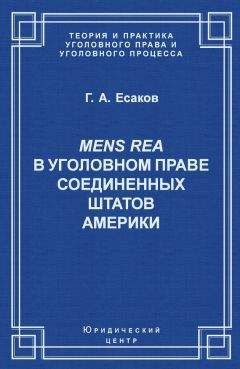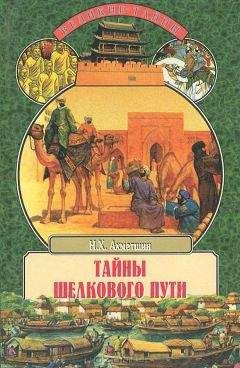— Послушай, Бретт. Ты знаешь бар «Джиро», возле Санта-Марины?
— Да.
— Я буду там через пятнадцать минут.
— Спасибо, Гвидо.
— Через пятнадцать минут, — повторил он и положил трубку. Потом черкнул записку Паоле — что ему пришлось снова уйти — и, уже спускаясь по лестнице, доел свой сэндвич.
«Джиро» было прокуренное и неприятное заведение, один из немногих в городе баров, не закрывающихся на ночь. Несколько месяцев назад оно сменило владельцев, и новые хозяева старались как могли сделать из него конфетку — с помощью белых занавесочек и слащавой музыки. Но классного паба у них так и не получилось, при том что улетучился дух обыкновенного городского бара, куда приятели могут зайти выпить чашку кофе или чего-нибудь покрепче. Ни шика, ни обаяния, а только вино втридорога и табачный дым коромыслом.
Бретт он заметил, как только вошел — за столиком в глубине, пристально глядящую на дверь. На нее саму, в свою очередь, откровенно пялились несколько молодых людей: они попивали у стойки красное вино и обменивались нарочно громкими репликами— чтобы те долетели до нее и возымели действие. Их взгляды он ощутил на собственной спине, когда направился к столику Бретт. Она так тепло улыбнулась, что он обрадовался, что пришел.
— Спасибо, — просто сказала она.
— Расскажи про это письмо.
Она посмотрела на стол, на котором лежали ее руки ладонями вниз — все время, пока она говорила.
— Письмо от адвоката из Милана, того самого, который устраивал развод. Он говорит, что получил информацию, что Флавия ведет «аморальную и противоестественную жизнь» — так прямо и сказано. Она показывала мне письмо. «Аморальную и противоестественную». — Подняв на него глаза, она попыталась улыбнуться. — Это обо мне, а? — Она выбросила руку вперед, обнимая пустоту. — Даже не верится. — Она покачала головой, — Якобы они намерены возбудить против нее дело и попросить… потребовать, чтобы детей вернули под попечительство отца. Это официальное уведомление об их намерениях, — Она замолчала, прикрыв глаза ладонью. — Они нас официально уведомляют. — Онаприжала ладонь к губам, словно пытаясь удержать слова во рту. — Нет, не нас, только Флавию. Только ее— о том, что они начали процедуру пересмотра родительских прав.
Почувствовав приближение официанта, Брунетти сердито отмахнулся. Когда тот удалился из зоны слышимости, он спросил:
— Что-нибудь еще?
Она старалась— да, он видел, как она старается вытолкнуть из себя слова, но не может. Вот она подняла на него несчастные глаза, как обычно Кьяра, когда набедокурит и приходит об этом сообщить. И что-то пролепетала, понурив голову.
— Что, Бретт? Я не расслышал. Она глядела на столешницу.
— Надо кому-то сказать. Больше некому. Больше некому? Ей, прожившей столько лет в этом городе, некому довериться, кроме полицейского, чья работа, в частности, — выяснить, не убийца ли ее любовница!
— Больше некому?
— Я никому не заикалась про Флавию, — произнесла она, на этот раз не избегая его взгляда. — Она говорит, что не хочет сплетен, что они могут повредить ее карьере, И я ни с кем не делилась.
Он вдруг вспомнил, как Падовани рассказывал во всех подробностях о первых признаках любви Паолы к нему, о том, как она себя вела, как говорила всем друзьям только о нем и больше ни о чем. Свет простил ей не только счастье— но и публичность этого счастья. А ведь эта женщина тоже, несомненно, любит, — уже три года, — и ей некому об этом обмолвиться. Кроме него — комиссара полиции.
— А твое имя в этом письме упоминалось? Она мотнула головой.
— А что Флавия? Что она говорит?
Кусая губы, она подняла руку и указала на свое сердце.
— Винит во всем тебя?
Она кивнула и, в точности как Кьяра, провела пальцем под носом. Палец заблестел. Он достал платок и протянул ей. Она взяла его, словно не понимая, что с ним делать, и держала его в руке, — из носа у нее по-прежнему текло, а по щекам катились слезы. Чувствуя себя изрядным болваном, но сознавая, что и сам, в конце концов, кое-чей папа, он взял у нее платок и промокнул ей лицо. Она отдернулась и выхватила платок — вытерла лицо, высморкалась и сунула платок себе в карман — так Брунетти лишился уже второго платка за эту неделю.
— Она сказала, что это я виновата, что ничего этого не случилось бы, если бы не я. — Голос у нее был сдавленный, разбитый. Она скривилась. — Самое ужасное— что это правда. Нет, я понимаю, на самом деле это не так, но когда она так говорит, я ничего не могу возразить.
— В письме сообщается, откуда взялась эта информация?
— Нет. Но наверняка от Веллауэра.
— Хорошо.
Она изумленно взглянула на него:
— Что же тут хорошего? Адвокат говорит, что они намерены предъявить обвинение и предать все огласке.
— Бретт, — его голос звучал спокойно и ровно. — Подумай хорошенько. Если он опирается на свидетельство Веллауэра, его еще надо доказать. И даже будь маэстро жив, он никогда бы не пошел на такое. Это пустая угроза…
— Но если они все-таки предъявят иск…
— Он вас просто-напросто запугивает. И, как видишь, ему это удалось. Ни один суд, даже в Италии, не поверит на слово — а в этом письме одни голословные утверждения, ни одной ссылки на свидетеля и ни одного доказательства, — он наблюдал, как до нее постепенно доходят его слова. — Ведь нет ни одного доказательства, правда?
— Что ты называешь доказательством?
— Письма. Не знаю. Разговоры какие-нибудь.
— Нет, ничего такого нет. Я ни разу не писала ей, даже из Китая. А Флавии вообще некогда писать письма.
— А что ее друзья? Им что-нибудь известно?
— Я не знаю. По-моему, об этом обычно не очень-то любят говорить.
— В таком случае, думаю, вам не о чем беспокоиться.
Она попыталась улыбнуться, попыталась убедить себя, что он сумел оградить ее от горя, что ей ничего не грозит.
— Правда?
— Правда. — Он улыбнулся. — У меня полжизни ушло на общение с адвокатами. Так вот, этому типу надо только одно— напугать вас и держать в страхе.
— Тогда, — она издала смешок, перешедший в икоту, — ему это правда удалось, — и добавила на вдохе: — Ублюдок!
Тут Брунетти сообразил, что есть смысл заказать им обоим бренди. Официант выполнил заказ с молниеносной быстротой. Она взялась за стакан.
— Это было так ужасно…
Он сделал глоток и приготовился слушать дальше.
— Она наговорила чудовищных вещей.
— Бывает— со всеми нами.
— Со мной не бывает, — тут же отрезала она, и он подумал, что, наверное, так оно и есть, что для нее язык— инструмент, а не оружие.
— Она все забудет, Бретт. Такие люди отходчивые.
Та передернула плечами, отметая этот довод как несущественный. Уж сама-то она, разумеется, ничего не забудет.
— И что же ты теперь будешь делать? — спросил он с неподдельным участием: ему и правда хотелось это знать.
— Пойду домой. Посмотрю, там она или нет. Посмотрю, что будет дальше.
Тут только до него дошло, что он даже не поинтересовался, есть ли у Петрелли собственное жилье в городе, даже не попытался проанализировать ее поведение, как до, так и после смерти Веллауэра. Неужели ему настолько просто заморочить голову? Да чем он, собственно, отличается от прочих мужчин — покажи ему смазливенькое личико, подпусти слезу, изобрази ум и честность, и вот он уже отмел самую возможность того, что рядом с ним — убийца или любовница убийцы.
Ему сделалось страшно, с какой легкостью эта женщина его разоружила. Он вытащил из кармана горсть банкнот и бросил на стол.
— Да. Это хорошая мысль, — произнес он наконец и, оттолкнувшись от кресла, поднялся на ноги, И заметил, с какой тревогой она следила за этим его превращением из друга в чужака. Даже такого пустяка он не сумел скрыть. — Пошли, я провожу тебя до Санти-Джованни-э-Паоло.
На улице — оттого, что было темно, и оттого, что так привык, он взял ее под руку. Оба молчали. Он ощущал рядом с собой ее женственность, изгиб ее широких бедер, это так приятно — чуть прижимать ее к себе, пропуская встречных прохожих в узких улочках. Все это он отчетливо сознавал, провожая ее домой, к ее любовнице.
Они простились под статуей Коллеони[50] — просто сказали друг другу «До свиданья», и все.
Взволнованный только что услышанным, Брунетти шел по затихшему городу. Прежде ему казалось, что он кое-что смыслит в любви, кое-что узнал о ней благодаря Паоле. Неужели он настолько раб условностей, чтобы воспринимать любовь этой женщины— а это любовь, вне всякого сомнения, — как нечто чуждое ему только потому, что чувство это не укладывается в его шаблонные представления? И тут же он отмел все эти соображения как сентиментальные в худшем смысле слова, сосредоточившись вместо них на вопросе, которым задался еще в баре: неужели его симпатия к этой женщине, ее привлекательность помешала ему разглядеть то, что он призван искать? Да нет, не похоже, что Флавия Петрелли способна на хладнокровное убийство. При том что в минуту ярости или страсти она, конечно, может и убить — как и большинство людей. Пырнуть ножом или сбросить с лестницы— это в ее духе, но расчетливое, почти бесстрастное отравление— это все-таки нет.