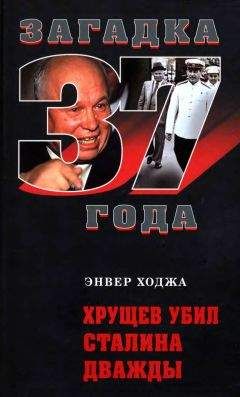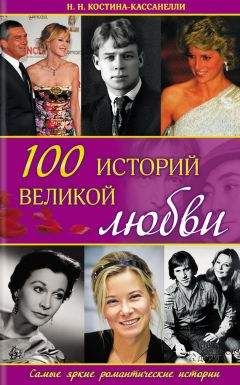— Что со мной теперь будет?
— Если вы не убивали Кулиш, то с нашей стороны, скорее всего, — ничего.
— Я ее не убивала! — страстно вскричала певица.
— А со стороны вашей администрации… — Катя сделала вид, что заявление о невиновности подозреваемой ее не коснулось, — ну, не знаю. Если у вас такие выпады друг против друга в порядке вещей… Как вы вообще можете сосуществовать в такой атмосфере всеобщей ненависти и зависти? — Помимо воли она озвучила те свои мысли, о которых Людмила Сегенчук не должна была знать.
Но та вдруг опустила глаза и расплакалась.
— Мне тетя давно говорила, что отсюда нужно уходить, — сказала она, тихо всхлипнув. — Но я не могу. Я хочу петь. Я не хочу идти учительницей в школу, не хочу сидеть дома… Я даже замуж не хочу выходить, понимаете? Хотя от меня только этого и ждут… И тетя, и дядя. И парень мой… А для меня театр — это все. Наверное, я даже детей не хочу… чтобы всю себя — театру… понимаете?
Катя понимала. От нее самой также ожидали чего-то подобного. Ее собственная мама все ждала, когда Катя образумится и для начала хотя бы выйдет замуж. А потом, глядишь, и оставит эту тяжелую неженскую работу, родит ей внуков и осядет юристом на какой-нибудь тихой фирме. Да и Тим, похоже, думает о том же…
— А вы хотите быть примой? Петь главные партии? — спросила она.
— А вы хотите узнать, кто убил Кулиш?
— Хочу, — призналась Катя.
— Тогда вы меня поймете.
— Нет, не пойму. Для того чтобы узнать правду, я не режу чужие костюмы и не бросаюсь на людей с ножницами!
— Я на нее не бросалась.
Катя поняла, что Людмила Сегенчук сейчас снова замкнется, и поэтому быстро согласилась:
— Хорошо, я вам верю. В той части, которая касается того, что Белько сама напоролась на ножницы. Кстати, где вы их взяли?
— Это мои. Я их из дому принесла.
— Вы что, шьете?
— Нет, не шью. Это Женя Богомолец шьет, у нее хобби такое — шить театральные костюмы. А я из бумаги вырезаю.
— Что вырезаете?
— Ну… цветы там всякие. Узоры. Декупаж называется. Сначала вырезаю, потом наклеиваю и специальным лаком покрываю.
— Куда наклеиваете?
— Куда угодно. Видите? — Сегенчук указала на изящную коробочку с розой на крышке, стоящую на столе напротив. Катя уже приметила в комнате эту вещицу, но приняла ее за старинную. — Я делаю такие вот… штучки. Эту для Женьки сделала. Ей нравится. А чтобы точно вырезать, нужны очень острые ножницы.
— Я тоже любила в детстве вырезать, — сказала Катя. — У меня куколка была такая… бумажная. Я ей платья рисовала и…
— А! — сказала Сегенчук. — У меня не одна куколка была! Я дома целый театр развела! С декорациями!
— Ладно, — оборвала ее Катя. — Давайте вернемся от наших детских увлечений к вашему поступку. Если бы Белько, допустим, не испугалась, увидев свои искромсанные костюмы, а все равно стала бы выступать на премьере, что бы вы дальше сделали?
— Ну… не знаю.
— А если бы Лариса Федоровна захотела петь?
— Лариса Федоровна недавно заболела… Она уже неделю не была на репетициях.
— А если бы она выздоровела?
— Завтра генеральный прогон в костюмах, и я точно знаю, что ее не будет. — Сегенчук упрямо вскинула голову.
— Откуда вам это известно?
— Женя сказала… Богомолец. Она у нее позавчера была. Сказала, что Лариса Федоровна совсем плоха и собралась ложиться в клинику неврозов.
— А кроме того, что вы испортили костюмы, вы что-нибудь еще собирались сделать?
— Что вы ко мне пристали? Хотите, чтобы я призналась в убийстве?! — внезапно взорвалась Сегенчук. — Или что я собираюсь придушить Белько в темном углу? Чтобы самой стать любовницей Савицкого? Ради того, чтобы он мне давал главные партии?! Да Белько, если хотите знать, сама еще та интриганка! Она собиралась замуж выходить, между прочим… Растрезвонила на весь театр! Ничего ей не нужно, последний сезон поет! — На глазах девушки выступили злые слезы. — И что? Зачем она врала? Зачем ей тогда петь Измайлову? Если она не собирается оставаться? Оказывается, она все замечательно просчитала! И Савицкого завлекла! И жениха своего бросила! Так ловко притворялась, что ей ничего не нужно… А я, дура, ей и поверила! А я с детства хотела петь! Мне нужна была эта роль! Я читала… готовилась… репетировала… Я знаю, что это такое… Да я сама готова умереть ради театра! Я хочу всю жизнь здесь работать! Для меня ничего другого не существует! А она…
В дверь постучали, и сразу же вошел Сашка Бухин. Вид у него был озабоченный. Быстро кивнув Кате, он положил на стол перед Сегенчук какую-то бумажку, аккуратно расправленную в файле. Бумажка была склеена из отдельных фрагментов — вероятно, сразу по прочтении ее разорвали на мелкие кусочки.
— Скажите, это вы писали? — обратился Бухин к певице, а Кате пояснил: — В гримерке у Белько нашли.
— Это вы подбросили записку Белько, правда? — допытывался Бухин. — Ведь это вы писали?
Катя заглянула через его плечо и увидела отчетливо написанную крупными прописными буквами фразу: «Если ты не уберешься сама, я тебя убью!»
— Ваша жена собиралась ложиться в клинику неврозов?
— Первый раз об этом слышу, — удивился режиссер.
— Она что, совершенно здорова? Почему же тогда она неделю не ходит на репетиции?
— Ну… мы с ней договорились.
— О чем?
— Что она скажется больной.
— Зачем?
— Чтобы не мешать Ане Белько спеть премьеру, — пояснил Савицкий.
Черт бы побрал эту дуру Сегенчук с ее ножницами! До премьеры всего неделя, а тут заварилась такая каша! И сегодня вместо прогона у них бесконечные допросы! Хорошо хоть эта противная баба… как ее… Сорокина кажется, не вызвала его в свою прокуратуру. А этот голубоглазый мент, похоже, ухлестывает за Алиной из хора. Тоже шныряет везде, да и с Алиной он, наверное, крутит для того, чтобы она ему доносила… А ведь он собирался эту смазливую Алину перевести на вторые партии — девчонка сильно выросла в последнее время. На следующий год можно было бы даже доверить ей Купаву в «Снегурочке». Партия сложная, но попробовать, во всяком случае, стоило… девчонка с темпераментом, может, и потянула бы…
— Так когда у вас премьера? — спросил Лысенко.
— Теперь — не знаю, — раздраженно ответил режиссер. — Афиши расклеены, билеты давно в продаже. Ничего себе — отличное начало сезона! Как это ей в голову пришло?
— Вы о Сегенчук? — спросил капитан.
— Именно, — подтвердил Савицкий.
— А что, вы бы действительно поставили ее на премьеру, если бы Белько отказалась петь?
— А с чего Анна будет отказываться петь? — насторожился режиссер.
— Ну… она себя плохо чувствует, как мне сказали.
У Ани действительно сильно опухла рука — эта идиотка своими ножницами, видимо, занесла туда какую-то инфекцию. Сегодня Аня даже осталась дома, потому что температура у нее поднялась до тридцати восьми, и он настоял на том, чтобы вызвать врача. Она сказала, что, как только жар спадет, приедет, но недавно позвонила и пожаловалась на сильную слабость. Голос у нее был при этом такой, что у него внутри все переворачивалось. Бросить бы к чертовой матери репетиции и этих настырных сыщиков с их расспросами и поехать к ней! Сказали же ей в больнице сразу, что лучше принимать антибиотики, но Аня почему-то заупрямилась. Он хотел даже оставить ее на пару дней в клинике, но она настояла на своем и уехала домой. Да, упавший сценарий — действительно дурная примета, недаром старые актеры перешептывались в кулуарах, что эта премьера обречена… Аня не в лучшем виде, и, возможно, придется ее заменить. Это плохо, он не любил перестановок в спектакле в последний момент.
— А если Анна Белько не сможет петь, вместо нее будет ваша жена? — продолжал допытываться мент.
— Ну… по-видимому, да. Наверное. Послушайте, почему вас это интересует?
— Или Сегенчук?
— Я не думаю, что Людмила Сегенчук вообще теперь будет работать в театре, — сухо сказал режиссер.
— Даже если некому будет петь премьеру?
— Да что вы понимаете в премьерах! — сорвался Савицкий.
— И в самом деле, ничего, — тут же согласился капитан, и артисту стало стыдно.
— Я думаю… если бы не было другого выхода, то — да, — неохотно согласился Савицкий. — Вся труппа, да и вообще весь коллектив театра, вложили очень много сил для того, чтобы открыть новый сезон «Катериной Измайловой».
— То есть вы бы поставили на премьеру Сегенчук? — зачем-то уточнил голубоглазый.
— Почему вы все время об этом спрашиваете?
— Потому что Сегенчук страшно рисковала, открыв замок и забравшись в гримерку Белько, чтобы подложить той записку, а затем испортить костюмы. И я хочу уяснить себе, насколько был оправдан ее риск. Значит, он был оправдан.
— Послушайте, костюмы, конечно, нелегко было бы восстановить за такой короткий срок, но это, наверное, не главное. Главное то, что эта дура старалась деморализовать Анну. Господи, но какая же дура! Угрожала ее убить! Я не хочу даже думать, что она могла отравить Оксану. Нет, это невозможно! Чтобы Люда Сегенчук… нет, я в это не верю. Она просто хотела испугать Аню… конечно, просто испугать, и все. И без Сегенчук сейчас в театре просто ад кромешный, — поморщился режиссер, — а тут еще она со своей дикой выходкой! И так сплошная суета, нервотрепка…