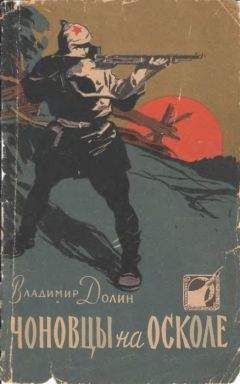Лица обоих вытянулись.
— За что же, помилуйте!
— Как за что? Захватывать на улице почтенных и уважаемых женщин… Скандалить! Обвинять в воровстве! Разве этого мало? Градоначальник негодует и хочет распорядиться о высылке.
— Ваше превосходительство… — умоляюще начали они, — недоразумение…
Оба наперебой пустились рассказывать уже известную мне историю. Я едва сдерживал улыбку, тем не менее строго сказал:
— Однако за такие «недоразумения», вы понимаете, наказывают…
— Господи! Да войдите же в наше положение, ваше превосходительство! — воскликнули они. — Сжальтесь…
— Не знаю. Я доложу градоначальнику, — ответил я сурово. — Сомневаюсь, чтобы он смягчился… Впрочем, все зависит от него и госпожи Ф., а также ее знакомой, которых вы оскорбили. О результатах… Я вас вызову и сообщу.
Оба ушли как в воду опущенные.
* * *
Градоначальник даже рассмеялся, когда я подробно рассказал ему всю историю.
— Да! — сказал он. — Пугнуть их, конечно, следует… Но на этом и покончить.
Дня три я не подавал вестей господам Б. и Я. Воображаю, как они там ругали своих жен. Наконец вызвал. Продержал три часа в приемной и не принял. Просил явиться завтра. Назавтра, опять достаточно выдержав их в ожидании, пригласил.
— Благодарите госпожу Ф. и господина градоначальника, — сказал я. — Они согласны прекратить это дело. Но в другой раз таких «недоразумений» не должно быть. Понимаете?
У Б. и Я. просияли лица.
— Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!
* * *
Выявить настоящих виновниц этой проделки мне так и не удалось, хотя очень хотелось…
Это было еще в начале моей полицейской карьеры. Если не ошибаюсь, в 1857 году.
Осенью, в последних числах сентября, ко мне, в то время полицейскому надзирателю Спасской части, вошел вестовой Сергей и доложил:
— Неизвестный человек, не объявляющий своего звания, целый день трется около конторы и ищет случая попасть с личной просьбой к вашему высокородию. Человек подозрителен.
— Почему?
— Дал мне тридцать копеек, чтобы я допустил его на разговор с вашим высокородием наедине.
— Позови.
Через несколько минут Сергей ввел в кабинет субъекта лет, по-видимому, сорока, одетого в обыкновенный мещанский наряд. Это был лысый, высокого роста человек.
На вопрос, что ему надо и кто он, неизвестный отвечал, что он динабургский мещанин Яков Дорожкин, недавно прибыл из Динабурга и что паспорта не имеет, а остановился на Васильевском острове у своего кума, бессрочно отпускного матроса Балтийского флота Семена Грядущего, который вот уже несколько лет служит у адмирала Платера кучером.
Отрекомендовав себя подобным образом, этот странный человек вдруг стал на колени и, просительно складывая руки, заговорил:
— Явите Божескую милость, ваше высокородие! Окажите ваше высокое содействие моему куму Семену к определению его в должность.
— Да ведь он служит, твой кум Семен, — сказал я. — Какой еще ему службы надо?
— Служит он, действительно, ваше высокородие, и при хорошем месте состоит… Только сделайте такую милость, определите его в палачи!
Как ни наторел уже мой полицейский слух ко всякого рода заявлениям, однако мне показалось, что я ослышался.
— Чего?.. Куда?.. — переспросил я.
— Палачом хочет быть Семен, — ответил ясно Дорожкин. — Сделайте такую милость, ваше высокородие, похлопочите.
Я велел просителю встать, а сам невольно задумался, удивленно поглядывая на неожиданного «просителя». Он стоял, почтительно вытянувшись и пожирая меня глазами, блестевшими из-под высокого, морщинистого лба.
* * *
Надо заметить, что на основании существовавших в то время законоположений правительство предлагало обязанности палача лишь преступникам, подлежавшим лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь или отдаче в арестантские роты. Но даже и при этих условиях кандидатов на эту должность почти не находилось. Да оно и понятно: роль палача не свойственна русскому человеку, и даже среди арестантов охотников на нее всегда было мало. Правительство даже циркулярно в разных губерниях разыскивало по тюрьмам желающих принять на себя эти ужасные обязанности.
Вот почему после нескольких минут раздумья я решил, что дело, во всяком случае, надо расследовать, и задал вопрос, судился или нет когда-либо его кум.
Оказалось, что Дорожкин этого не знает, но что, во всяком случае, кум его, Семен Грядущий, просит во что бы то ни стало выхлопотать ему определение на должность палача, обещая не пожалеть на это никаких расходов, лишь бы, впрочем, об этом до времени не было известно адмиралу Платеру.
— Потому, видите ли, что адмирал с трудом отпускает кума со двора, разве раз в месяц — в баню. Вот я за него и прошу, и так как кум завтра, кстати, именинник, то позвольте порадовать его, что вы взялись хлопотать по его делу.
Заинтересованный еще более как ходатаем, который, казалось, вполне искренне желает угодить своему приятелю, так и в особенности личностью человека, который, живя на свободе и в известном достатке, стремился принять на себя ремесло палача, я решил заняться этим делом основательно.
Прежде всего я справился, почему он обратился именно ко мне, а не к другому и кто его ко мне направил. Ответы получились удовлетворительные. Рекомендовал ему меня как человека, который мог бы выхлопотать такую должность, письмоводитель и паспортист квартала, служивший несколько лет у квартального надзирателя Шерстобитова.
Я объявил странному ходатаю, что завтра же по делам службы буду на Васильевском острове и чтобы он вместе со своим кумом к часу дня явился в гостиницу «Золотой якорь», куда я заеду.
Дорожкин отвесил мне поклон до земли и заявил на прощание, что кум его ничего не пьет, не курит и человек весьма набожный…
Словом, удивление, да и только.
* * *
Подъезжая на другой день к «Золотому якорю», я увидел, что мой вчерашний посетитель уже ожидает меня у подъезда.
Очень предупредительно встретив меня и введя в отдельный номер, он опять бросился на колени и умоляющим голосом стал просить подождать не более получаса, потому что кум его не успел приготовить надлежащего одеяния, дабы предстать предо мной во всей форме своего будущего звания.
В ожидании появления кандидата в палачи я стал расспрашивать Дорожкина, чем он занимается. Совершенно свободно и без всяких оговорок он объяснил, что с двадцати лет жизни он занимался провозом контрабанды, преимущественно чая, но лет шесть тому назад они были пойманы и сидели в тюрьме более двух лет. В тюрьме отец его, бывший шляхтич, умер.
Во время этой откровенной беседы в номер вошел мужчина и, поклонившись мне в ноги, с волнением произнес:
— Будьте отец и благодетель, устройте, чтобы я был палачом. Век за вас буду Богу молиться, все расходы снесу, какие потребуются. Желаю послужить государю.
Я увидел человека лет пятидесяти, роста выше среднего, очень крепкого телосложения, с густыми русыми волосами, подстриженными в скобку, с усами. Одет он был в плисовую черную безрукавку, в такие же шаровары, запущенные в голенища сапог, и в красную рубашку. Безрукавка была перехвачена узким пояском.
— Я, — сказал он, — служил во флоте, вышел в бессрочный отпуск и нынче служу кучером по найму у адмирала Платера. Адмирал мной доволен. Я холостой, не пью и не курю.
На вопрос, почему у него появилось желание быть палачом, новый мой знакомец пояснил:
— Два раза в жизни видел я, как на конной площади палач Кирюшка наказывал убийц. Да разве это палач? Да разве так наказывать надо? Да разве такую для этого надо иметь руку? Эх, прямо вскочил бы на эшафот, значит, да и выхватил бы у него плеть, да и потянул бы… вот как… не «по-кирюшински», а так, что «они» и не встали бы… Силу в этом я необыкновенную имею. Вот уже месяца два я еще больше в этом деле упражняюсь. Каждый день утром по двадцати ударов кнутом каждой лошади даю, и вечером повторяю ту же самую порцию. Вот кум видел… Как я вхожу в конюшню, страх на лошадей находит непомерный… Рычат, топочут, брыкаются.
На эти слова кум, то есть Дорожкин, убежденно заметил:
— Точно, как волшебник, даже скот в повиновение привел.
А лошадиный (пока что) палач продолжал:
— И адмирал мной довольны и не раз говорили: «Ну, Семен, преобразовал ты у меня лошадей, едут ровно, останавливаются как вкопанные…» Ваше высокородие, за определение меня в палачи вы и ваше высшее начальство будете довольны.
Эту последнюю фразу Семен Грядущий произнес с особенным ударением. Вслед за тем он вынул из кармана красную феску с большой золотой кистью, надел ее на голову и повелительно произнес:
— Кум! Встань-ка туда у двери… задом!.. Облокотись на дверь, будто представляешь, что приготовился к наказанию. Видели ли вы, выше высокоблагородие, как плетьми наказывают? — обратился он ко мне.