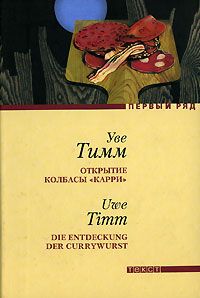Нет, не верю ему.
И Игорю тоже не верю.
– Он умеет притворяться. Умеет быть хорошим, честным, верным. Настоящий рыцарь. Вот только до сих пор никто не осмелился заглянуть под забрало. А ведь у Марты и вправду был с ним роман, и беременность тоже была. И ее нежелание избавляться от ребенка, который, естественно, моему брату был совершенно не нужен. Удивлена? А сейчас удивишься еще больше. – Василий сел, близко, неприятно близко. – Та авария, в результате которой Ольгушка пострадала, она ведь не случайна. Точнее, испорченное рулевое управление не может быть случайным, а дело замяли, потому как невозможно связывать благородную фамилию Бехтериных с подобной грязью, удобнее было списать поломку на ошибку экспертизы…
Недолгое молчание, приправленное этой раздражающей, навязанной Василием близостью, собственные растерянность и желание выбраться, наконец, из болота чужих проблем, которые в одночасье вдруг стали моими.
Верить или нет? А если «да», то кому верить?
– Марта собиралась вернуться, мы перезванивались время от времени. – Василий достал из пачки еще одну сигарету и долго возился с зажигалкой, которая вдруг перестала работать. Сухие щелчки, перемежаясь со словами, создавали странное полотно звуков.
– Марта всегда отличалась несколько неуравновешенным характером. – Наконец, зажигалка сдалась, выпустив на волю хрупкий сине-оранжевый огонек. – А в последнее время вообще вразнос пошла, ничего слушать не хотела.
– А ребенок?
– Ребенок? Не было ребенка… выкидыш. Черт, я все думаю, что получись у нее родить, то успокоилась бы. А так… красивая, но без денег, те, что из дому захватила, быстро закончились, а дальше… мне ли тебе рассказывать?
Василий выдохнул серо-голубой клубок дыма, который медленно рассыпался, растворился в нагретом солнцем воздухе.
– Она весело жила, ни о чем не жалела… во всяком случае поначалу. Потом пить начала, ну и крышу сорвало окончательно. Она Игоря обвиняла, что он ее соблазнил, потом бросил, выставил из дому, лишил наследства и возможности жить нормально. Короче, проще сказать, в чем она его не обвиняла. А примерно год назад обмолвилась, что встретила его случайно, ну и решила вернуться, поскольку очень уж все Бехтерины хорошо живут. Я отговаривал, и когда она пропала, обрадовался, решил, что образумилась… а вышло наоборот. Вернулась и умерла. Забавно, правда?
До невозможности забавно.
– Кому у нас все верят как себе или почти как себе? Игорю. К кому летели, когда надо было походатайствовать перед Дедом? К Игорю. По чьей репутации ударило бы возвращение Марты? И кому выгодна была смерть Деда? А также твоя смерть?
Игорю Бехтерину.
Но он же знал, что весь этот фокус со свадьбой для отвода глаз…
И именно потому, что знал, не тронул приманку, устранив источник проблемы.
– Видишь, думать начала. Я тоже, только поздновато, наверное, да и не поверит никто без доказательств, он же хороший, а я – плохой, – сигарета медленно истлевала, а Василий точно и не замечал этого.
Я же думала, существует ли это второе завещание на самом деле, или же Игорь, уловив мою неуверенность, просто воспользовался ситуацией. И сделка ему нужна была лишь для того, чтобы задержать меня в доме.
А если оно существует? Спросить у тетушки Берты? Ответит ли? Сомневаюсь. Я снова запуталась, а как выпутаться – не знаю.
– А зачем тебе меня спасать?
– Ну, причин несколько. Первая – я не настолько подлец, чтобы желать чьей-либо смерти, и уж тем более смерти существа столь очаровательного. – Василий даже изобразил нечто вроде полупоклона. – Вторая прозаичнее. Я тебе помогаю, а ты, проникшись чувством глубокой и искренней благодарности, делишься наследством.
– А если не делюсь?
– Значит, мой братец в кои-то веки получит по носу, тоже своеобразная компенсация, но все-таки я бы предпочел материальное вознаграждение. Вообще-то я не тороплю, но сама подумай, чем дольше ты тут торчишь, тем больше вероятность несчастного случая… или еще какой неприятности. Так что…
– Что ты конкретно предлагаешь? – Я не хотела думать, точнее не сейчас, в ванильно-ядовитом обществе Василия.
– Предлагаю убраться отсюда. В деревне у меня машина. Ну да, в деревне, не хочу я показывать, что у меня есть машина – такому бездельнику не положено. Довезу до города, могу дальше, в столицу, жилье организую, платить, правда, сама станешь.
– Какой добрый.
– Не добрый, – уточнил Василий, подымаясь, – практичный. Если тебя убьют, деньги достанутся Гарику, а от него я точно ничего не получу. С тобой хоть какой-то шанс. Так что… коль согласна, то в часов пять утра во дворе, уходить советую по-английски, не прощаясь.
Советовать советовал, а у самого не получилось – на пороге комнаты Василий столкнулся с Ольгушкой и как-то смутился, отступил назад и тут же, словно пытаясь перебить это непонятное мне внезапное стеснение, поспешил огрызнуться:
– Оленька… как всегда прекрасна. Безумно прекрасна. Или прекрасно безумна?
Убить бы его, но отворачиваюсь к окну, делая вид, будто не слышала.
В этом доме не принято слышать и слушать чужие разговоры. Каждый выживает сам по себе.
В четверть пятого утра я стояла во дворе. Долго стояла, вглядывалась в черные, матово поблескивающие лунным светом окна и ждала… даже поняв, что Василий не придет, все равно ждала. В темноте, в тишине, в свободной прохладе воздуха, не летнего и не зимнего, ждать было легко.
А потом, когда я уже вернулась к себе и ворочалась, пытаясь заснуть, наступило утро.
Февраль дарил морозы, обволакивал толстой ледяной корой деревья и сугробы, серебрил небо да выстуживал тепло даже через тяжелую соболью шубу. Настасья куталась в мех, пытаясь согреться, добро бы в дом идти, но… дом походил на клетку. Беломраморную, золоченую, укрытую коврами, украшенную статуями да картинами, но вместе с тем до невозможности тесную. Должно быть, от ненависти, поселившейся внутри.
Настасья точно могла сказать, когда появилась ненависть – в тот самый день, в тот самый час, когда Дмитрию вздумалось пригласить ее на танец. Лизонька сочла сей жест оскорблением, но гнев свой обратила не на супруга, а на сестру. Ссора, произошедшая на следующий день, была столь же закономерна, сколь отвратительна. Ледяной тон, ледяной взгляд и жестокие слова о безумии, невозможности заключения брака, о том, что Дмитрий из христианского милосердия принимает Настасью в своем доме, и ей следует смириться с судьбой, не пытаясь достигнуть большего.
А маменька, присутствовавшая при беседе, ни слова в защиту не сказала, более того, Настасье показалось, что маменька была целиком на стороне младшей дочери.
Что ж, Настасья давно смирилась, еще тогда, когда Дмитрий назвал ее погасшей звездой, а может раньше, в опиумных снах… или в обвитой огненными лентами беседке… она не пытается ничего достигнуть, более того, была бы весьма рада, если бы ее оставили в покое.
– О чем задумались?
Настасья вздрогнула, в очередной раз подивившись тому, как неслышно ступает Дмитрий. Или это она задумалась настолько, что не услышала, как он подошел?
– Скучаете?
– Нет.
– Вы сердитесь, а жаль… в скуке нет ничего предосудительного. Вот, скажем, зимний сад умиротворен покоем, то ли смерть, то ли сон, сквозь который теплится слабое биение жизни… скучно. – Дмитрий ступал широким шагом, и Настасье не оставалось ничего другого, кроме как идти следом.
– Поверьте, мне искренне жаль, что вышло так… нелепо. Порою сложно быть собою, приходится выбирать, а потом до конца дней своих сомневаться в правильности сделанного. – Коружский сошел с дорожки и, отломив обындевевшую веточку, протянул ее Настасье. – Зимние цветы весьма… необычны.
Хрупкие белые иглы жались к коре, не то листья, не то змеиная чешуя, и невзрачными слюдяными бусинами блестели почки.
– Знаете, чего бы мне хотелось? – спросил Дмитрий, наклоняясь к самому уху. – Один портрет, один человек… насколько проще было бы… извините.
Он ушел, быстро, будто убегал, а Настасья еще долго гуляла, сжимая в руке мертвую ветку…
С Лизонькой она столкнулась у пруда, та стояла, опершись на высеребренную морозом решетку, и вглядывалась в снежно-ледяную гладь. Поначалу Настасья думала уйти, чтобы избежать новой ссоры, но Лизонька сама шагнула навстречу. До чего же она изменилась, всего-то месяц, а высохла, истончела, черты лица заострились, а кожа потемнела, только глаза по-прежнему яркие.
– Я победила, – Лизонькин голос был тих, однако Настасья слышала каждое слово. – Он меня выбрал, так что ж ты теперь лезешь, мешаешься… думаешь, не вижу, как глядишь на него? Отнять решила? На мое место метишь?
– Нет.
– Тогда почему он почти все время с тобой? Почему больше не приходит ко мне? Почему… почему говорит, что даже с ангелов слазит позолота? – Прозрачные дорожки слез весенними ручьями скользнули по щекам. – Думаешь, я не знаю, что ты чувствуешь? Знаю… я ведь сама… весной, когда ты из дому уходила, а я следом… шаг в шаг, тенью, проклятым отражением… смотрела и завидовала. До ночных кошмаров, до горькой крови из прокушенной губы, до…