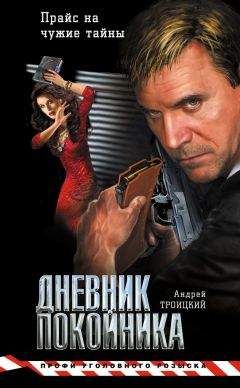…Девяткин сидел в грязной луже и думал о том, что надо выбираться из этой помойки. Уже то хорошо, что он не потерял сознание, что вообще жив. Он посветил вокруг огоньком зажигалки, поднял пистолет и стал медленно карабкаться вверх по ржавым скобам. Выбравшись наружу, вдохнул сырой свежий воздух, шагнул вперед и увидел у дороги далекий абрис человеческой фигуры.
Сделав несколько шагов вперед, майор остановился, сел на мокрую траву, засучил штанину и ощупал голень левой ноги. Вздохнул и положил пистолет на землю, наблюдая, как человек достиг шоссе, прихрамывая, пошел вдоль освещенной трассы по направлению к Москве и через минуту скрылся из вида. Видимо, этого сукина сына где-то неподалеку ждала машина.
Девяткин пошарил по карманам разорванного, перепачканного грязью пиджака, вытащил пачку сигарет, зажигалку. Руки еще дрожали – то ли от напряжения, то ли от сознания того, что партия, которую он уже считал своей, проиграна. В самый последний момент. Так глупо, так бездарно… Он закурил, задержал теплый табачный дым в груди. Голова приятно закружилась, а боль в ноге ненадолго ушла.
Грач водил машину медленно, как-то неуверенно. Он слишком близко наклонялся к рулю, сжимая его с такой силой, что пальцы становились белыми. За всю дорогу он выдавил из себя всего несколько слов и облегченно вздохнул, когда «Ауди», почти новая, доставшаяся от покойного отца, остановилась у служебного подъезда театра.
– Слово себе дал не ездить на этой тачке, когда темно, – сказал на прощание Грач. – Я вечерами плохо вижу, а тут такое движение… Это ведь не просто машина, это память об отце.
Под фонарем Дорис ждал Борис Ефимович Свешников, ведущий актер тетра и ближайший друг Лукина – среднего роста плотный человек с красивыми ресницами, выпуклыми румяными щеками и добрыми глазами.
– Я уж по-старомодному. – Сжав руку Дорис своими пухлыми пальцами, он поцеловал ее. – Со мной прошу по-простому, без церемоний…
И тут же склонил голову для нового поцелуя. Пряди волос, прятавшие напудренную лысину, обнажили ее. Но Свешников сделал вид, что не заметил конфуза, и еще долго не выпускал женскую руку. Прижимал ее к сердцу, гладил запястье и что-то тихо мурлыкал. Редким прохожим, наблюдавшим эту трогательную сцену, могло показаться, что мужчина, оставивший в прошлом свою молодость, вдруг встретил в сумерках московского вечера неувядающую юношескую любовь.
Наконец через служебный вход вошли в театр. Пробрались лабиринтом полутемных коридоров к лестнице, поднялись на второй этаж и оказались в просторной, ярко освещенной комнате. Занавесок на окнах не было, хорошо просматривалась другая сторона улицы. Усадив гостью в дряхлое плюшевое кресло перед кофейным столиком, Свешников прижал палец к губам, будто боялся быть услышанным, и перешел на таинственный шепот:
– Спектакля сегодня нет, нам никто не помешает. Артисты готовятся к гастролям.
Распахнув дверцу книжного шкафа, поставил на столик вазочку с баранками и карамелью, тарелку с зелеными яблоками. Вытащил початую бутылку коньяка и две рюмки толстого стекла. Наполнив их, сказал:
– Поднимаю этот тост в память о великом русском режиссере, который ушел от нас слишком рано.
Кажется, он хотел дать слезу, но передумал. Иначе получится слишком пафосно, фальшиво. Запрокинув голову, осушил рюмку и поморщился, будто не коньяка, а самогонки хлебнул.
– Вот, пожалуйста, лучшие фотографии моей коллекции. – Откуда-то из воздуха материализовался объемистый альбом с золотым тиснением на корешке. – Фото, сделанные по ходу спектаклей «Дядя Ваня», где я имел честь играть Вафлю, и «Вишневый сад». Роль Лопахина я не получил, потому что годы, как говорится, берут свое. Но истинные знатоки театра утверждают, что Фирс в моем исполнении – лучший в России. Я чужд лести, но с этим утверждением соглашаюсь. Все это для вашего музея в Америке. Подборка моих фотографий. Пусть хоть какая-то память останется. Да… У нас тоже есть музей театрального искусства, но эти фотографии в этой цитадели пошлости и примитивизма не поймут и не оценят. Завистники. Повсюду их яд, воздух пропитала ненависть к чужому таланту.
– Не хочу вас обнадеживать. Экспозицию музея формирую не я, – заметила Дорис.
– Но именно вы – ведущий специалист по истории русского театра. – Свешников никогда не скупился на лесть. – Многое зависит от вашего желания, мнения…
С трудом подбирая слова, Дорис сказала, что Свешников обещал принести редкие фотографии Лукина, а принес свои. Конечно, он талантливый актер, она с великой благодарностью принимает этот подарок и надеется, что фотографии помогут ей… Через минуту Дорис окончательно запуталась. И, чувствуя неловкость момента, подняла рюмку и пригубила коньяк. Разговор снова оживился. Свешников добавил, что со смертью Лукина и его актерская звезда померкла и закатилась. Новым главрежем прочат одного молодого человека, бездарного, но с решительным характером. Значит, новых ролей не будет. Прощальный вечер со зрителями состоится в сентябре, об этом уже договорились.
– Я бы мечтал умереть на сцене. – Устроившись в кресле, Свешников ловко налил рюмку и опрокинул ее в рот. – Во время спектакля. Чтобы обязательно в гриме, в парике. Рухнул бы на доски пола так, что пыль поднялась. А зрители сразу поняли бы: Свешников больше не встанет. Отыгрался, артист… Вот это смерть. Это великая награда Бога, а не смерть. Ничего, что я о вечном?
– Ничего. Мы ведь все об этом думаем. Вы обещали рассказать о последних встречах с Лукиным. С вами он делился замыслами, идеями…
Свешников, кажется, не услышал последних слов. От выпитого коньяка он все больше мрачнел, губы стали фиолетовыми, кожа на щеках и шее пошла багровыми пятнами.
– Но моя судьба – другая. Тихо угаснуть на больничной койке, стоящей возле окна. В палате, набитой людьми, где витают миазмы боли, отчаяния и безысходности. Я не боюсь смерти и, кажется, знаю, как все это будет. Все случится холодной зимней ночью, перед рассветом. Я впаду в забытье, в бреду скажу несколько ничего не значащих слов. И всё… Подойдет сестра, меня с головой накроют простыней. Кровать вывезут в коридор, где она простоит до утра. А там явятся санитары и спустят тело в подвал, в морг. Ни одна собака не вспомнит, что скончался большой артист. Которого, между нами, любили женщины, любила публика…
Свешников неожиданно всхлипнул, взглянул на гостью глазами, полными слез, снова всхлипнул и выплеснул в горло новую стопку коньяка.
– Ну, зачем же так мрачно? – Дорис чувствовала себя неловко. Она не знала, чем утешить человека, который слишком поздно открыл для себя, что человеческий век так короток. На душе сделалось тоскливо, и самой захотелось заплакать. – До осени ситуация может еще сто раз измениться. И с работой все наладится, и роли новые будут. Вот только курите вы зря.
– Кури или не кури, все равно подыхать.
Несмотря на все попытки Дорис свернуть беседу в сторону, мрачное настроение, овладевшее Свешниковым, уже не отпустило. К тому же он так захмелел, что дальнейший разговор потерял всякий смысл. Воспоминаниями о покойном друге Свешников делиться не мог, но нашел почтовый пакет с фотографиями Лукина.
Дорис бегло просмотрела снимки и не сдержала вздоха разочарования. Почти все это она уже видела. Какие-то фото опубликованы в газетах и журналах, другие размещены на сайте Лукина. Ради того, чтобы посмотреть, как Свешников напьется, не стоило терять времени. Впрочем, напился он быстро и, свесив голову на грудь, задремал в кресле.
Дорис выбралась на улицу, проскочив тот же лабиринт коридоров, несколько минут стояла на кромке тротуара в ожидании такси. А сев в машину, задумалась о том, что делать дальше. Есть небольшой список людей, с которыми надо бы встретиться и поговорить о Лукине. Следует продолжить работу на даче режиссера. Она разглядывала через стекло бессонный город, огни ресторанов, пешеходов, рекламные щиты, за которыми не разглядеть московской архитектуры, и думала, что в общем и целом все идет гладко. Нужно только терпение и еще раз терпение.
Когда такси остановилось, Дорис расстегнула объемистую кожаную сумку, чтобы достать кошелек, и, увидев вдруг дневник Лукина, который она читала сегодня на даче, начала копаться в сумке, стараясь найти свою тетрадь с записями. Но ее не было. Видимо, в спешке она перепутала два ежедневника, внешне похожих. Одного размера, тот и другой в темном кожаном переплете. Господи, лишь бы не заметил Грач! А если заметит? Будет такой скандал, что трудно даже представить. Дорис больше не получит доступ к дневникам и записным книжкам Лукина, не переступит порог его дачи и квартиры…
Сейчас она поднимется наверх, позвонит Грачу и расскажет обо всем. Или лучше действовать иначе. Грач ничего не заметил – и не заметит, потому что ближайшие сутки он будет в городе. Оказавшись на даче, Дорис снова поменяет ежедневники. Так тому и быть. И волноваться не о чем.