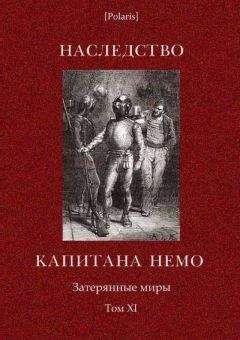Глаша… Глаша простовата и хамовата, возрасту неопределенного, неряшливая – вон и сейчас волосы из-под чепца выбиваются – и некрасивая, с побитым оспинами лицом, с замыленными, растертыми до воспаленной красноты руками, с пухлой обвисшей грудью и пухлым же животом, из-за которого кажется, что она, Глаша, и не сестра милосердия, а одна из наших пациенток. Но в работе она иная – исполнительная, аккуратная, точно в этом массивном теле находятся два человека, подменяющие друг друга.
Хотя Вецкий полагает, будто бы Глаша обирает пациенток. Не верю. Не потому, что так уж полагаюсь на Глашину честность, скорее вижу, что брать с наших нечего…
– А я, значится, ей и говорю: что ж вы, милочка, недоглядели? А она мне: доктор, а как глядеть было? Занятая я! Занятая! – Вецкий расхохотался, но никто его не поддержал, только Марьянка вспыхнула румянцем, Софья отвернулась, а Глашка недобро хмыкнула, давая понять, что рассказанная история неуместна.
Впрочем, Вецкий поражает умением подбирать совершенно неуместные истории, порой мне чудится, что он это нарочно делает, но опять же мысли сии я держу при себе.
– Ой, Егор Ильич! А вы не кушаете! Кушайте! – Марьянка подвигает ко мне миску с домашним, Глашей принесенным печивом и банку с бело-желтым, ароматным до дурноты медом и крынку с молоком. Софья тут же наливает молока в кружку, а Глаша, укоризненно качая головой, встает. Спустя несколько минут она возвращается с тарелкой, на которой разложены куски отсыревшего, ноздреватого хлеба, белые ломтики сала с тонкой мясной прослойкой и два соленых огурца.
– Нате. Лучше этого, а чаю и потом.
– Потом остынет, – возражает Софья. – Холодный невкусно.
Не возражаю обоим, но при виде Глашиного натюрморта в животе совершенно неприлично урчит.
– Что, опять поесть забыл? – усмехается Вецкий.
Забыл, всегда забываю, но они напоминают. Храни их Геката.
Илья проснулся от звонка, точнее, он проснулся немного раньше, словно предчувствуя, что трубка разорвется звоном, ударит по натянутым нервам, вытягивая из спасительного забытья, запустит маховик похмелья и жизни, которая почему-то продолжалась, несмотря на неприязнь к ней Ильи.
Он лежал на диване, на покрывале, скинув плед на пол, замерзая и радуясь тому, что замерзает, и понимая, что все-таки придется вставать. Хотя бы к телефону.
А тот, строгий, черный, поблескивал солидным хромом и подмигивал цифрами на узком экране. Да и без цифр все понятно: Дашка звонит. Она сама эту мелодию выбрала, поставила и менять запретила. И пускай. Визг, приправленный завываниями скрипок, басовитым похрюкиванием трубы и дребезжанием медных тарелок, что, соединяясь друг с другом, порождали звук неимоверно отвратный.
– Да? – с трудом разлепив губы, выдал Илья. Он прижимал трубку к уху одной рукой, второй же не глядя шарил по полу, пытаясь нащупать плед. Тот не нащупывался, зато ладонь натолкнулась на что-то продолговатое и скользкое. Бутылка с минералкой?
Это она вовремя.
– Дрыхнешь? – с подозрением поинтересовалась Дашка. – Уже дрыхнешь?
– Нет. Уже не дрыхну.
– Значит, страдаешь. Слушай, Илька, ну сколько можно, а? Ну ушла она, так что теперь, до конца жизни слезы лить? Ты, в конце концов, мужик или как?
– Или как, – эхом отозвался Илья и, зажав бутылку под мышкой, решительно повернул пробку. Зашипело, потекло по пластиковому боку и пальцам, расплываясь темными пятнами на покрывале.
Совсем как собачья кровь.
И кровь собачья, и жизнь такая же.
– Да она, если хочешь знать, с самого начала… – Дашка с воодушевлением принялась за старое. Нравилось ей обсуждать Аленку, всегда нравилось. Как она выразилась? С самого начала, да?
С самого начала это был обыкновенный курортный роман: случайная встреча на берегу моря, волны, летящие по песку, солнце и девушка в красном купальнике.
– Можно с вами познакомиться?
– Попытайтесь.
Как вызов. И еще насмешка в глазах. Надменный носик, аккуратный подбородок, разодранная коленка с желтым квадратом пластыря.
– …да ты ей нужен был лишь как трамплин…
Она умела прыгать с трамплина. Хрупкая фигурка под самым небом, три шага, полет, когда сердце Ильи обрывалось знакомым страхом, и сине-зеленая гладь раскалывается, поглощая человека.
Они поженились годом позже, в Москве. Сначала ЗАГС, потом венчание. Белое платье с широкой юбкой, искусственный жемчуг на тонкой шейке, острые Аленины плечики – на правом родинка. А вторая на животе. И третья – на внутренней поверхности бедра. И четвертая, под коленкой, той самой разбитой коленкой, которую Алена некогда прикрывала желтым пятном пластыря.
Илья помнил ее всю, и старые белые шрамы над правой лопаткой – в детстве неудачно скатилась с горки. И чуть кривоватый позвоночник, помешавший ей достичь побед в большом спорте. И то, как серьезно Алена произносила эти слова, про спорт и победы, а ему хотелось смеяться, столько в них было пафоса.
– …да она жила с тобой как у Христа за пазухой…
Три года счастья, ослепляющего, оглушающего, бесконечного. Тогда у Ильи и мысли не возникало, что можно жить иначе, все, что было до Алены, он воспринимал как подготовку, ожидание чуда… а после нее приходилось существовать воспоминаниями об этом чуде.
– …нашла замену, стал не нужен…
Замена. Как в большом спорте. Илья не сумел взять барьер, и его отстранили. Его замена – плотный и потный немец, герр Бахер. Герр Бахер. Так и тянет срифмовать. Три складки под подбородком, над розовой губой двумя полосками бархата усы, рыжие, как Дашкины волосы. И ресницы рыжие – короткие, редкие, а взгляд беспомощный.
Единственное, что в нем беспомощного, – это взгляд. Герр Бахер высок и статен, широкоплеч и широкопал, с повадками сонного медведя и акульей хваткою.
Один укус – и душу выгрыз. Жаль, что не добил.
– …обобрала как липку, а ты и рад стараться был…
Нет, не рад. Анестезия. Аленино робкое:
– Прости, пожалуйста.
Слеза на загорелой щечке ползет к родинке номер семь, той, которая живет на шее, прячась под гривой гладких темных волос.
Ей не за что просить прощения, она же не виновата, это Илья не справился, не сумел, пошел на замену. И сдал спортивный инвентарь.
– Ви должны понимат, что она иметь право… – говорил герр Бахер, близоруко щурясь, и ладошку поглаживал, Аленину ладошку, на глазах у Ильи.
– Половина имущества по закону принадлежит супруге, – вторили адвокаты. Их было два, один в синем костюме, другой в сером. А больше Илья не запомнил.
Потом Дашка говорила, что отдал он гораздо больше, чем половину, да и ту мог не отдавать, ведь фирму-то он создал до Алены, и квартиру купил тоже до, и вообще она изменила.
Она ушла, и этот факт, короткий и беспощадный, перечеркивал все Дашкины возражения.
Ушла. Бросила. Заменила. Так стоит ли жалеть о потерянном жилье? Или о том, что вторая половина фирмы ушла за бесценок тому же герру Бахеру? Какая разница.
– Илья! – рявкнула Дашка в трубку. – Ты пил?
– Нет.
– Пил! Ты начал пить из-за этой стервы! Это не выход!
– И не вход.
Не из-за Алены он запил. И вообще один раз – не в счет.
– День вчера отвратным получился, извини, – Илья попробовал сесть на диване, пошевелил головой, с мазохистским наслаждением отмечая наличие головной боли. – Собаку убили.
– О да, – Дашкин голос лучился ехидством. – Какое ужасное преступление. Убили собаку! Ильюха, ты что? Теперь всю жизнь этим заниматься будешь?
Наверное, да. Тем более что жизнь уже была, осталась позади, ушла вместе с Аленой, позарившись на рыжие бархатные усы и беспомощный взгляд.
– Значит, так, сегодня… лучше если ближе к вечеру, ты ей позвонишь.
– Алене?
– Идиот, – выдохнула Дашка, скрипнув чем-то. В кресле сидит, точно, на даче, на веранде, в кресле-качалке, которое еще от бабки осталось. Сидит и раскачивается, прижимает телефонную трубку плечом к уху и перебирает клубнику. На Дашкином животе целая миска стоит, темно-зелененькая, с рисованной же клубничиной сбоку. И внутри клубника, розово-бело-зеленая, недоспелая, и буро-красная, с россыпью мелких желтых зернышек. Дашка берет по одной и ногтями отрывает зеленые шапки, которые кидает в стакан. А ягоды – в другую миску. Потом вымоет, посыплет сахаром и зальет молоком. Она всегда только так.
А Алена любит виноград.
– Юльку Светлякову помнишь? Ну я тебе про нее рассказывала, и про подругу ее, которая Магдалена и стерва, – постанывают половицы, и Илье неимоверно хочется туда, на бабкину дачу, где ни проблем, ни боли, только солнце, грядки с клубникой и речка в трех шагах.
– Не помню, – дача не вязалась со страданиями, и Илья усилием воли задушил желание.
– Короче, Юлька собиралась замуж, а Магда у нее жениха увела. Прикинь?
Ей, наверное, больно, этой неизвестной Юльке, от которой ушел жених. Илья точно знал – никто никого не уводит, люди уходят сами, к другим людям, оставив третьих, с кем были до того, искалеченными.