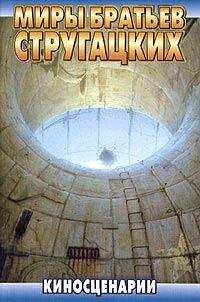- Ты из Познани?
- Да. Хотя сейчас живу в Варшаве. Так вот, там такие знаменитые букинисты, их даже называют Меккой библиофилов, и туда из Европы приезжают любители редких изданий, из других стран...
Она весело продолжала болтать. Кажется, она была по-настоящему счастлива.
В магазине сувениров мы купили семь глиняных горшочков ("Семь хорошее число", - сказала она), а в "Смоленском" - все необходимое для идеального бигоса, отстояв очереди, и две бутылки красного вина, "Арбатского". Когда мы вернулись домой, она надела фартук и стала колдовать над бигосом - но не прежде, чем мы опять свалились в постель и откупорили первую бутылку.
Я сидел на кухне, курил, любовался ей.
- Расскажи мне о Познани, - попросил я.
Она ненадолго задумалась.
- Познань?.. Это чудесный город, замечательный город, один из красивейших городов Европы. Хотя после войны его довольно основательно пришлось восстанавливать, как и Варшаву, и Краков. Видел бы ты нашу ратушу! А перед ратушей есть фонтан... Фонтан со статуей Прозерпины.
- Прозерпины?
- Да. Представляешь? Она такая... такая парящая, никак не подумаешь, что она - царица царства мертвых. Или, может, скульптор изобразил её радостной, что она вернулась на землю. Когда мне было лет пятнадцать, то подшучивали, что я на неё похожа, и мне это нравилось.
И опять полыхнули её глаза бездонной, полыхающей, расшитой золотыми искрами тьмой. Она хотела сказать больше, но не сказала. А я этого тогда не понял. Только сейчас понимаю. Она хотела сказать, что теперь она сама - как Прозерпина, полгода замерзающая в аду и полгода радующаяся жизни на земле. И что её жизнью на земле теперь станут наши встречи - те моменты, когда мы рядом.
Да и я на всю жизнь разделил этот жребий: постоянно мерзнуть в аду наших разлук, отогреваясь и расцветая душой лишь во время недолгих свиданий. Но, повторяю, тогда я этого не понимал - хотя и предвидел, предчувствовал где-то в глубине сердца.
- Ты надолго в Москве? - спросил я.
- У меня ещё три дня.
- И задержаться ты не можешь?
- Не могу.
- Из-за мужа?
Она повернулась ко мне, и снова её глаза были темными-темными. Шторм в них нарастал, и это был великолепный шторм, с зелеными отсветами закипающих волн.
- Нет. Из-за папы.
- Из-за твоего отца? - не понял я.
- Из-за папы Иоанна-Павла II. Второго июня начинается его первый визит на родину после избрания папой, и я должна - просто должна - быть на его встрече с народом. Тоже должна его встретить, понимаешь? Поэтому позже среды утром мне улетать нельзя. Ведь среда - это уже будет тридцатое мая... Вот так, - она стала раскладывать бигос по горшочкам. - Сверху надо залить его свиным жиром и закрыть бумагой, промасленной или вощеной, и в холодильнике он может стоять долго, очень долго. И, если надо, просто достал горшочек, сунул в духовку - через пятнадцать минут обед готов.
Первый горшочек мы разъели вечером.
Мы прожили неразлучно три дня - до понедельника утром на моей квартире, а потом у нее. Она жила на квартире подруги, которой не было в городе и которая оставила ей ключи. Мирные и тихие минуты, подобные тем, когда мы гуляли по Арбату или когда Мария готовила бигос, оказались для нас редкостью. Все эти три дня мы либо занимались любовью, либо зло ругались по любому поводу - в основном, выясняя, так сказать, "межнациональные отношения" - и наша злость, накаленная добела, в какой-то момент превращалась в неудержимую страсть. Мы ненавидели друг друга - и все же любили.
Потом Марии настало время уезжать.
- Значит, на попа меня меняешь? - сказал я.
Она вспыхнула.
- Не на попа, а на папу! И вообще, не смей...
Я только фыркнул и ушел в другую комнату, закурил. Через пять минут она заглянула и сказала сухо:
- Выходи из квартиры. Мне надо её запереть, и ключи оставить в почтовом ящике.
Я вышел на лестничную клетку, не глядя на нее. Потом она появилась, несла свой саквояж. Я вызвал лифт. Я не хотел её видеть, я мечтал оказаться подальше от нее. Но не выдержал, взглянул. И в этот же момент она взглянула на меня. И, будто нас что-то толкнуло, мы бросились друг другу в объятия, и целовались, вцепившись друг в друга, забыв о времени, забыв обо всем...
Я проводил её до стоянки такси, посадил в машину. Ехать с ней в аэропорт она мне запретила.
Я стоял, глядел вслед такси, пока оно не завернуло на другую улицу, и ощущал такую пустоту, после которой и тоска, и отчаяние кажутся избавлением.
Когда я вернулся домой, родители ели бигос.
- Откуда у тебя это? - спросили мама.
- Вкусно? - спросил я.
- Очень!
Я махнул рукой и ушел в свою комнату, что-то пробормотав насчет вечеринки, где одна из девушек взялась это приготовить.
В комнате, я ничком упал на кровать. На подушке ещё держался запах Марии, тонкий, почти неразличимый никому, кроме меня, и я зарылся лицом в подушку.
Неделю после отъезда Марии я провел как в тумане. А потом...
Потом меня пригласили на "собеседование".
Я так понимаю, кто-то из гостей на свадьбе - кто-то из наших друзей и однокурсников - "стучал" активно и крепко.
Меня вызвали якобы для обсуждения распределения после института.
В кабинете декана сидел плотненький такой мужичок с невыразительным лицом и в строгом костюме - хорошем, но неброском. Декан представил меня мужичку - невнятно пробормотав что-то вроде "вот, Иван Иванович хочет с тобой поговорить" - и сразу вышел. Тут и последний олух понял бы, что все это не просто так.
- Насколько я знаю, вы делаете большие успехи, - начал мужичок. - При этом, разумеется, вы должны понимать, что работа с иностранными языками это работа с людьми, которые на этих языках говорят. А эти люди зачастую принадлежат к другому лагерю, недоброжелательно относятся к нашему советскому строю. Вы, надеюсь, понимаете, какая важная в политическом и идеологическом смысле миссия вам предстоит, в силу выбранной вами профессии?
Может быть, я не дословно пересказываю его речь - кое-что забылось за давностью лет - но смысл воспроизвожу абсолютно точно. Я облизнул пересохшие губы и ответил:
- Понимаю.
- Очень хорошо, - мужичок малость расслабился. - Ведь и языки вы выбрали соответствующие - французский и немецкий, если не ошибаюсь?
- И третьим испанский, - подсказал я.
- Да, конечно... И как вы смотрите на то, чтобы, например, всю жизнь проработать во Франции или в Германии?
- А что для этого от меня требуется? - спросил я.
- Немного. Совсем немного. Просто понимать важность вашей роли в той борьбе, которая идет в современном мире. Думаю, у вас, как у советского человека, это понимание есть. Вы могли бы подкрепить его и делами... Например... Да, например, - мужичок стал совсем улыбчивым, - насколько нам известно, у вас сложились весьма доверительные отношения с некоей Марией Жулковской. Она сама нас не очень интересует, а вот её муж - один из тех смутьянов, "высоколобых", как их называют на западе, которые вечно в оппозиции к народному правительству и вечно мутят воду. По нашим данным, в Польше могут назреть некоторые неприятные события. Мы сделаем все, чтобы их предотвратить. И с вашей помощью нам это будет сделать сколько-то легче... Ведь наверняка вы, в особенно откровенные моменты, - тут его улыбочка сделалась гадливой, - можете узнать у Жулковской то, что она не расскажет никому другому...
Я не знаю, что на меня нашло. Помню, как потемнело в глазах, как меня захлестнула волна жгучей ярости. Я встал и, аккуратно сложив дулю, подсунул её под нос мужичку.
- Слушай, а иди ты... - и я медленно, раздельно и внятно послал его на три буквы. Потом я повернулся и вышел из кабинета, хлопнув дверью.
В тот день я нажрался. Я был готов ко всему - что меня исключат из института, заберут в армию, даже арестуют, или подстроив какой-нибудь инцидент, который можно объявить "злостным хулиганством", или подбросив мне в сумку "Архипелаг ГУЛАГ". И поймите меня правильно: ненавидел за то, что она уехала, за то, что она переспала со мной, за то, что только при мысли о ней я ощущаю жар в чреслах (а как ещё это назвать), за то, что она лишила меня надежд на спокойную нормальную жизнь, потому что я больше не мог глядеть на других женщин, и знал, что у меня никогда не будет ни жены, ни семьи... Но предать её, воспользоваться её доверием - пусть даже это было бы доверие дешевки, шляющейся от мужа по чужим постелям, и я, надо полагать, не один был у неё такой - я не мог. Не мог, и все. Я знал, что, если соглашусь, то под благовидным предлогом сразу же окажусь на стажировке в Польше, или ситуация как-то иначе повернется так, что Мария всегда будет рядом. Но я не мог продать мою любовь этим сволочам.
Но ничего не случилось - кроме того, что на следующее утро голова трещала у меня от похмелья так, как никогда в жизни. Я спокойно посещал институт, день за днем, никаких неприятностей на меня не обрушивалось. Постепенно я начал считать, что моя реакция была настолько нестандартной, что меня решили оставить в покое.