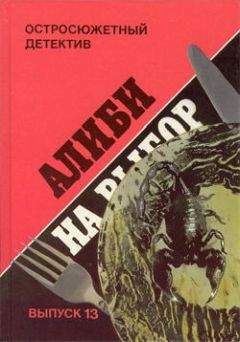Запыхавшись, Элоиза уселась на прежнее место.
— Если ты вздумаешь поднять шум, Элоиза Россатти, я тебя посажу в тюрьму! Схватить парня только потому, что он соперник твоего сына! Должно быть, ты совсем свихнулась, моя милая! Таламани миланец, который приехал сюда в ответ на объявление мэтра Агостини, искавшего клерка. Об этом парне ничего плохого сказать нельзя. Он сирота, живет тихо-смирно, и в тридцать два года за ним не числится даже ни одного романа.
— И ты считаешь, что это нормально?
— Нормально или нет, это не касается ни меня, ни тебя! Бедняжка, по временам ты просто теряешь рассудок! Ты себе представляешь, как я пойду к мэтру Агостини и скажу ему: «Я должен вас арестовать, потому что вы отказываетесь выдать вашу дочь за Амедео Россатти»? а свобода личности, Элоиза, об этом ты подумала?
— Ты можешь говорить все, что тебе угодно, я-то знаю, что на самом деле ты рад возможности отомстить.
— Отомстить? Но кому?
— Мне!
— Тебе?
— Да, потому что я не стала тебя слушать тридцать пять лет тому назад, когда ты хотел на мне жениться.
— Час от часу не легче!
— Посмей только сказать, что ты не любил меня в то время, трус, изменник!
— Что-то не припомню.
— А когда ты потащил меня за бывший свинарник в вербное воскресенье и стал меня щипать, этого ты тоже не помнишь? Я еще влепила тебе тогда пощечину!
— Ты, вероятно, путаешь.
Элоиза возмущенно выпрямилась.
— Давай, давай! Сейчас ты скажешь, что я путалась с кем попало! Оскорбляй, оскорбляй меня, если уж начал! Тебе, значит, недостаточно способствовать убийству моего сына, ты хочешь еще замарать честь его матери?
Тимолеоне поднялся в свою очередь:
— Взвешивай свои слова, Элоиза, ты можешь за них поплатиться! Начальника карабинеров не оскорбляют при исполнении служебных обязанностей, иначе…
Неожиданно он замолчал, раздувая ноздри и принюхиваясь к запаху, идущему из кухни. Пока он спорил с синьорой Россатти, произошла страшная катастрофа! Поняв это, он завопил:
— Мое рагу! Боже правый, я забыл о нем, и оно подгорает!
* * *
Облаченный в пиджак из альпака, из-под которого выглядывал белый пикейный жилет, в пожелтевшей от времени панаме, опираясь на трость с серебряным набалдашником, мэтр Агостини направлялся к церкви. Все, с кем он встречался, почтительно ему кланялись: нотариус воплощал успех, и каждый житель Фолиньяцаро гордился им, как будто его состояние принадлежало всем. Постучав деликатнейшим образом в дверь обветшалого домика священника, метр Агостини спросил у открывшей ему донны Серафины:
— Дон Адальберто дома, донна Серафина?
Старушка, весьма чувствительная к вежливому обращению, приветствовала посетителя и ответила, что хозяин у себя и она пойдет его предупредить. Но она не успела этого сделать, так как над ними появилась голова священника:
— Это ты, Изидоро?
— Как видите, дон Адальберто.
— Ты пришел на исповедь?
— Не совсем.
— Очень жаль, ты нуждаешься в хорошей чистке. Так поднимись ко мне в спальню.
Священник был старше нотариуса на двенадцать лет и знал его с самого дня рождения. В школе он был помощником сестры Кунегунды и вместе с ней учил маленького Изидоро читать и писать. В последующие годы их дружба сохранилась. Нотариус неизменно проявлял глубокое уважение к священнику, который, к слову сказать, обвенчал его с девицей из соседнего городка Домодоссолы и крестил их дочь Аньезе. Каждый раз, когда он входил в комнату своего старого друга, Изидоро испытывал странное волнение, какое-то смешанное чувство жалости при виде неопровержимых доказательств аскетического существования священника, легкого стыда оттого, что сам он принадлежал к привилегированному сословию и, наконец, невольной зависти при мысли о том, что дону Адальберто обеспечено местечко в раю.
— Так что же, Изидоро, у тебя случилось? Ты ведь так нарядился не только для того, чтобы поболтать со мной?
— Я предпринимаю важный, даже значительный шаг, дон Адальберто, и поэтому счел своим долгом надеть лучший костюм.
— В общем, ты решил оказать мне уважение?
— Именно так.
— Благодарю, хотя… мне помнится… когда ты был маленьким, всякий раз, как ты принимал этот серьезный вид и держался так торжественно, всякий раз, как твои глаза выражали это напускное смирение, которое я вижу в них в настоящий момент, ты замышлял какую-нибудь гадость…
— Дон Адальберто!..
— Не волнуйся, Изидоро, скажи мне лучше, как поживают твоя жена и дочь?
— Вы ведь знаете Дезидерату? Она все чаще и все громче ноет по всякому поводу и без всякого повода. Что касается Аньезе, то она только о том и думает, как бы выйти замуж.
— Это нормально, не так ли?
— Ну, конечно, падре, и я пришел к вам поговорить как раз по поводу Аньезе.
— По поводу Аньезе? Я тебя слушаю…
— Я хотел бы отпраздновать ее помолвку в середине следующей недели, и, конечно, дон Адальберто, желательно, чтобы эта церемония была проведена вами… Я подумал, что церковное благословение…
— Ну, конечно, конечно… Однако должен сразу тебе сказать, правда, для тебя это не новость, что не могу пообещать ничего роскошного. У меня остался только старый хлам для совершения обрядов бракосочетания и похорон…
— Дон Адальберто, Аньезе — моя единственная дочь… Следовательно, в нашей семье другие свадьбы не предвидятся… Я хотел бы в знак нашей старинной дружбы, в знак нашей взаимной привязанности преподнести нашей дорогой церкви в Фолиньяцаро все, чего ей недостает, для того чтобы вы сами, падре, а также тот, кто вас заменит, могли достойным образом женить, крестить и хоронить наших сограждан. Могу я надеяться, что вы примете этот дар? Вы доставили бы мне величайшую радость.
Слезы показались на глазах дона Адальберто, когда он встал с постели, на которой сидел — в его комнате был всего один стул, занятый Агостини — и обнял нотариуса.
— Изидоро… благодарю. Ты славный человек… Забудь, как я тебя дразнил только что… Прости меня.
— Помолчите, падре! Вам ли, святому человеку, просить прощения у такого грешника, как я?
— Прекрасно! Так попросим же прощения друг у друга и не будем больше об этом говорить. Я состряпаю миленькую проповедь для жениха с невестой, скажу, как я восхищаюсь добродетелью Аньезе и прекрасными качествами Амедео, который, несмотря на то, что был лишен отцовской поддержки, сумел занять приличное место в обществе в ожидании лучшего, так как, поверь мне, Изидоро, этот мальчик далеко пойдет и ты еще будешь гордиться своим зятем! Но что с тобой? Ты, кажется, не в восторге от моих слов?
И в самом деле, у нотариуса был ужасно смущенный вид.
— Я не понимаю, дон Адальберто, почему вы говорите об Амедео Россатти?
Теперь уже священник выглядел удивленным.
— Да ведь это за него ты отдаешь свою дочь, разве не так? Эти дети уже давно любят друг друга, и не скрою, Изидоро, я не мог дождаться момента, когда ты, наконец, решишься соединить их, чтобы не допустить греха.
Как всегда, когда люди замышляют недоброе, Изидоро вышел из себя:
— В мои намерения никогда не входило просить синьора Амедео Россатти войти в мою семью! Я не испытываю симпатии к военным, даже К карабинерам. На мой взгляд, их нравы несовместимы с правилами, которыми должна руководствоваться христианская семья!
— Ты смеешься надо мной, Изидоро?
— Нисколько!
— В таком случае ты мне, может быть, объяснишь, что означает комедия, которую ты передо мной разыгрываешь? Всё Фолиньяцаро уже несколько лет как знает, что Амедео и Аньезе друг в друге души не чают! Не позже, чем позавчера, сам Тимолеоне утверждал при мне, что его капрал невероятно трудолюбив, что он занимается до поздней ночи и собирается, как только его переведут в унтер-офицеры, готовиться к поступлению в офицерское училище. В чем ты можешь его упрекнуть?
— Да ни в чем. Синьор Россатти меня не интересует, я не хочу, чтобы он был моим зятем, вот и все. Просто, не так ли?
— Но Аньезе…
— Аньезе, благодарение Богу, порядочная девушка, воспитанная в уважении к родителям. Я не сомневаюсь, что она подчинится воле своего отца!
Священник помедлил с ответом. Глядя в упор на своего посетителя, он, наконец, тихо произнес:
— Я беру назад свои извинения, Изидоро. Оказывается, я не ошибался и ты готовишь порядочную подлость. Могу только посоветовать не вмешивать Господа Бога в твои грязные махинации.
— Дон Адальберто!
— А можно у тебя спросить, кому ты собираешься отдать свою дочь?
— Эузебио Таламани, моему клерку… Это серьезный, благонамеренный молодой человек. Я очень ценю его отношение к работе, его преданность. Он станет моим зятем, а когда для меня наступит время уйти на покой, я оставлю ему мою контору.
— Аньезе согласна?