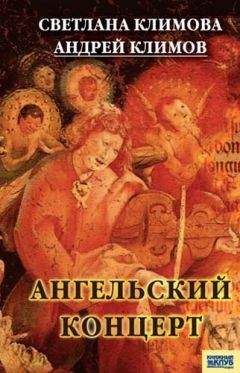— Тьфу на тебя! — Гаврюшенко откинулся в кресле и захохотал. — Сказано: горбатого могила исправит… Так нужна тебе работа или нет?
— Нужна, — я мгновенно собрался. — Лицензия просрочена, остальные документы в порядке.
— Засунь эти бумажки подальше. Пойдешь юристом в гуманитарный департамент?
— Это клерком, что ли? — заворчал было я, но Гаврюшенко, искоса взглянув на часы, перебил:
— Случайно, не ты пять минут назад говорил, что намерен жить на зарплату?
— Допустим. Погорячился, бывает.
— И нужно только, чтобы кто-нибудь согласился тебе ее платить?
— Не отрицаю.
— Вот они и согласятся. Если я, конечно, им позвоню. Попаришься с полгода в этой конторе, а там видно будет. Звонить?
Я все еще колебался, совершенно не представляя, чем мне предстоит там заниматься. И хотя выбора у меня не было никакого, все-таки сказал:
— Подумать надо. Может, я свяжусь с вами в конце дня?
— Сюда не звони, — отрезал Гаврюшенко. — Все равно меня не будет. Сбрось сообщение — авось дойдет. Я попозже скажу, к кому обратиться.
Откуда он взял, что я соглашусь? Даже на самый поверхностный взгляд это было предложение из тех, от которых только и можно, что вежливо отказаться.
На этом мы обменялись рукопожатиями.
В приемной толпились и гомонили какие-то плотные мужички с озабоченными лицами, а секретарша на прощание подарила мне взгляд из тех, которыми окидывают незнакомца, неожиданно вскочившего в лифт, когда двери уже закрываются…
Не сказать, чтобы я летел домой как на крыльях. Мне по-прежнему нечем было утешить Еву, и чувствовал я себя довольно паршиво. Конечно, я мог бы продолжать игру в поиски работы еще пару недель — рано или поздно в огромном городе что-нибудь подвернется. Но для этого требовались смирение и готовность принимать вещи такими, как они есть. А обе эти добродетели были мне совершенно чужды.
Домой я вернулся, чувствуя себя чем-то вроде двуглавого орла с вывихнутыми от постоянных конфликтов шеями. А ввалившись в прихожую, увидел, что в комнате, в кресле рядом с письменным столом, выпрямив спину и насмешливо подняв брови, восседает не кто иная, как моя пожилая приятельница Сабина Георгиевна Новак. Ева с ногами устроилась на нашем диванчике, и обе они, страшно довольные друг другом, болтали так, будто были знакомы тыщу лет — или больше.
— Сабина Георгиевна! — сконфуженно пробормотал я, косясь на пачку оплаченных счетов у телефона.
— Егор, дорогой мой! До чего же я рада!..
Несмотря на свои семьдесят с лишком, Сабина выглядела отменно: сухощавая, бодрая, с ясными глазами и все тем же хрипловатым смешком. Ее рыжеватые с проседью коротко стриженные волосы по обыкновению торчали во все стороны.
Мы обнялись, и тут Ева у меня за спиной сказала:
— Ты знаешь, пока тебя не было, я выходила за хлебом и, кажется, нашла работу.
— То есть? — я разжал объятия и подозрительно уставился на пожилую даму.
— Я здесь ни при чем, — мгновенно отреклась Сабина.
— У нас внизу, оказывается, есть маленькое кафе. Называется «Вероника». Им нужна официантка. Как ты думаешь, я справлюсь?
Мы с Сабиной быстро переглянулись, и я рыкнул:
— Через мой труп.
А потом добавил:
— Это не ты нашла работу, а я. И больше не хочу слышать об этом ни звука.
Часть I. Ганс Сунс: черный тополь
В конце рабочего дня в мою конуру, отгороженную от офиса инспекторов хлипкой гипсокартонной переборкой, ввалился сумасшедший. И не просто так, а с проектом введения в стране военно-теократической монархии. По его наметкам всех граждан надлежало разделить по вероисповедному признаку на три категории, а упорствующих агностиков массово сослать в Восточную Сибирь, справедливо распределив между истинно верующими их греховно нажитые недвижимость и активы. Что касается власти, то она должна сосредоточиться в руках императора, главнокомандующего и первоиерарха в одном лице, в провинциях же — Украине, Казахстане, Белоруссии и Молдове — учреждаются наместничества.
Этого типа отфутболили ко мне из приемной, и теперь девчонки-секретарши веселились от души, представляя, чем закончится наша беседа. Я слушал не перебивая, но когда сумасшедший произнес: «Мы с вами живем в те роковые дни, когда анголо-татарская рать кованой пятой попирает многострадальные земли постславянских государств…» — занервничал и переспросил:
— Какая-какая рать?
Псих метнул на меня подозрительный взгляд.
— Анголо-татарская, какая же еще, — неприязненно пояснил он.
Я поднялся со стула, и он вслед за мной. И ровно в ту же секунду, когда я протянул ему через стол листок с разборчиво написанным адресом епархиального управления, дверь моего кабинета приоткрылась.
— Вам — по этому адресу, — сказал я. — Там разберутся… Проходите, господа!
Псих недоверчиво фыркнул, сунул бумажку в карман мятых штанов и, бубня под нос и косолапо шаркая сандалиями, попер к выходу. В дверях он задел плечом плотного, начинающего лысеть мужчину лет сорока пяти, тот пробормотал «Извините!», но сумасшедший не пожелал его заметить.
Следом за мужчиной в мою клетушку протиснулась женщина помоложе, более рослая, чем ее спутник, и, я бы сказал, миловидная, если бы в ее лице было побольше красок. Оба были настроены решительно, в особенности дама. Опередив спутника, она схватила пластиковый стул, стоявший у стены, но не села, а дождалась, пока на него опустится мужчина, сама же осталась стоять.
Я почему-то сразу решил, что они родственники, — и не ошибся.
— Моя фамилия — Кокорин, — произнес мужчина, дергая заклинившую молнию на замшевом жилете, плотно обтягивающем намечающееся брюшко. Затем он извлек внушительных размеров носовой платок, промокнул горошины пота на лбу и добавил: — Кокорин Павел Матвеевич. А это моя сестра Анна…
Я поймал цепкий взгляд женщины — она пыталась оценить впечатление, которое на меня, очевидно, должна была произвести фамилия «Кокорин». Не имея ни малейшего понятия, кто это, я соорудил самую радушную улыбку.
— Вот как? Весьма рад. И что же вас ко мне привело?
— Мы по поводу «Мельниц Киндердийка»… — начал было Кокорин, но тут же спохватился: — Ах да, вы же ничего толком не знаете… Дело в том, что примерно два месяца назад из мастерской нашего отца была украдена картина. А теперь стало доподлинно известно, что некое лицо пытается получить разрешение министерства культуры на вывоз этой работы за рубеж.
— Ваш отец — художник? — спросил я, лихорадочно соображая, какое отношение к похищенной картине может иметь мелкий клерк гуманитарного управления. То есть я. Мои усилия не ускользнули от Анны — в ее взгляде отразилось насмешливое презрение.
— Да, — Кокорин поерзал на стуле. — Однако всеобщее признание он получил прежде всего как выдающийся реставратор. Поверьте — в том, что касается Северного Возрождения и барокко, равных ему нет. Это я вам говорю как профессионал. Странно, что вы не слышали его имени.
— Виноват, — я потянулся за сигаретой. — Вопросами искусствознания я занимаюсь всего две недели. До этого я специализировался в совершенно другой области.
— В какой же, если не секрет? — вежливо поинтересовался Кокорин.
— Уголовный процесс, — сказал я. — И смежные экстремальные виды спорта.
Шутку он оценил, но от его сестры по-прежнему веяло холодом.
— Значит, вы считаете, — продолжал я, — что лицо, похитившее картину, пытается вывезти ее из страны. Откуда у вас эта информация?
— Не важно, — насупился Кокорин. — Какая разница. У меня антикварный бизнес — маленькая галерея и магазинчик при ней. Как во всяком бизнесе, у меня есть свои каналы и связи. За разрешением на вывоз картины обратился некий Борис Яковлевич Меллер, стоматолог. Он перебирается на постоянное жительство в Германию, но я могу поручиться, что сам Меллер к краже отношения не имеет. Не тот персонаж.
— Вы хотите сказать, что он купил ее у похитителя?
— Именно. Больше того — Меллер представил в соответствующие инстанции документы, подтверждающие, что картина действительно принадлежит ему и приобретена законным путем. Липа, разумеется, но всегда найдется эксперт, которому будет выгодно этого не заметить.
— Серьезные хлопоты, — заметил я. — Во всяком случае для Меллера. И что, дело того стоит? Во сколько могут оцениваться эти ваши «Мельницы»?
— Здесь — тысяч десять от силы. В евро. В Германии или Голландии — от семидесяти до ста двадцати, в зависимости от текущего состояния рынка.
— Вот как? — удивился я. — Вы, кажется, сказали, что это работа вашего отца?
— Ничего подобного я не говорил. — Кокорин снова заерзал.
— По-моему, — вмешалась Анна, — мы просто теряем время. Это бессмысленно, Паша.