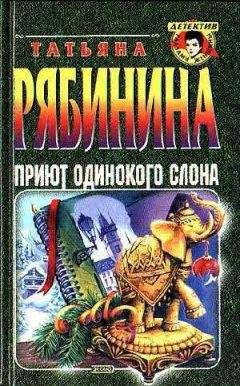- И что? - спросила Вера.
- Бьет себя пятками в грудь, называется свиньей и предлагает нам всем мировую. И каникулы в Праге за его счет.
- И что? - снова спросила Вера.
- Что, что? Ты думаешь, нам стоит поехать?
- Откуда я знаю. Тебе виднее. Может, он действительно все осознал и хочет помириться.
- Да ладно!
- А с чего бы ему тогда всех вас к себе приглашать? У него там что, дом?
- Да. Только не в Праге, в горах где-то.
- Вау! - застонала Вера. - Вадь, может, он все-таки не такой козел, а?
- Не знаю. Мне Генкина услуга слишком дорого обошлась, чтобы просто так все забыть и получать удовольствие от отдыха в его компании.
- Но ведь там будет не только он, - пожал плечами Леша. - Выразите ему коллективное молчаливое презрение и наслаждайтесь Прагой за его счет.
В этот момент им принесли другой счет, за обед, и дискуссия сама собой закрылась. На улице повалил крупными мохнатыми хлопьями снег, поэтому единственное, что занимало их в ближайшие пять минут, - как бы побыстрее добежать до конторы.
* * *
1986 год
“Gaudeamus igitur…” Посвящение в студенты. Двадцать вторая линия Васильевского острова. Аудитории, в которых всего месяц назад сдавали экзамены. Пропахшие адреналином коридоры, где в дремотной дурноте, зажав в потных руках экзаменационный лист, ждали своей очереди “на эшафот”…
Решение поступать на юридический пришло спонтанно. Это в конце 90-х быть юристом стало модно и престижно. Четырнадцать лет назад в моде были историки. Особенно те, кто занимались историей СССР. Начали раскрываться архивы, газеты и журналы распухали астрономическими тиражами за счет материалов о сталинской эпохе. Тогда казалось: как только в истории страны не останется “белых пятен”, сразу все станет хорошо и настанет лучшая, просто замечательная жизнь. Конкурс на истфак был не меньше, чем в театральные училища.
Вадим оценивал свои желания и возможности здраво. Что он хотел изучать? Уж никак не “Архипелаг ГУЛАГ”. А историю средневековой Европы. В частности, Чехии. Он никогда там не был, но еще в пятом классе ему попались “Старинные чешские сказания” Алоиса Ирасека, и Вадим по-настоящему заболел этой страной. Он читал все, что только мог найти, собирал вырезки из газет и журналов, переписывался с двумя школьниками из Чехословакии. Пытался сам учить язык, но ничего не вышло: способностями в этой области Бог его обидел. Следовательно, соваться на чешское отделение филфака смысла не имело: принимали всего шесть человек из шестидесяти желающих. География Вадима абсолютно не привлекала, оставался исторический. Педагогический институт отпал в полуфинале: возиться с детьми не хотелось. А вот университет…
Возможно, Вадим и поступил бы, учился он неплохо и школу закончил всего с тремя “четверками” в аттестате. Но, на его беду, в то лето в университете проводили очередной эксперимент: три экзамена вместо четырех и собеседование, по результатам которого начисляли - или не начисляли - дополнительные баллы. У Вадима в багаже не было ничего такого, что могло бы помочь: ни медали, ни рабочего стажа, ни хотя бы победы на какой-нибудь олимпиаде. Полет фанеры над известным городом при таком раскладе был обеспечен изначально.
“Вадик, поступай к нам, на юрфак, - сказала мама, которая преподавала там римское право. - Дались тебе эти чехи. Запомни, мечта сбываться не должна. Чем больше мечта, тем большее разочарование испытываешь, когда она сбывается. На юридическом тебя хотя бы заваливать не будут”.
Вадим, хотя и неохотно, но все-таки сдался. Он понимал, что мама права. И что в январе ему исполнится восемнадцать, а значит, второй попытки поступить в вуз до армии уже не будет. Из Афганистана приходили цинковые гробы. Где гарантия, что его не пошлют именно туда? Трусом Вадим не был, но в Афган не хотел. Война эта ему не нравилась. Он считал, что абсолютно ни к чему русским гибнуть за чужие идеи, даже если за всем этим стоит сверхзадача не пустить проклятых империалистов к рубежам Союза. К тому же он был у мамы один.
Экзамены Вадим сдал без труда. И вот, едва успев полюбоваться новенькими студенческими билетами, первокурсники, облаченные в телогрейки и резиновые сапоги, погрузились в электричку, идущую с Витебского вокзала. Деревня Федоровское. Дождь, холод и бесконечные поля брюквы.
Их поселили в полузаброшенном клубе, девчонок в одной половине, парней в другой. Топчаны с жиденькими матрасами, привезенные из дома одеяла. Туалет на улице. Утром - чай и сухпай, днем - жидкий суп с брюквой и каша, тоже, видимо, брюквенная, вечером - чай и ларек. А в ларьке - черствый хлеб, макароны и сушки. С восьми утра - покрытые инеем борозды, уходящие в бесконечность. Через пять минут перчатки и штаны промокали насквозь. На сапогах - тонны грязи. Брюква - желтая, скользкая и вонючая. А вечером в крохотном зальчике, отведенном им под столовую, начинались танцы. Приходили местные. Девчонки строили глазки, парни нарывались на драку.
Вадим на танцы не ходил. Он предпочитал лежать на кровати и читать. Однажды вечером, когда в “спальне” никого не было, к нему подошел невысокий тощий парень. Светловолосый и кареглазый, он чем-то смахивал на молодого Александра Абдулова. Вадим знал, что его зовут Гена Савченко и что они из одной группы, но и только.
Савченко потоптался рядом, видимо, желая начать разговор, но не зная, как.
- А что ты читаешь? - наконец спросил он.
Вадим молча показал обложку.
- Чапек?! - Савченко был поражен так, словно это были какие-нибудь папуасские сказки в оригинале.
- А что? - удивился Вадим его удивлению
- Да ничего, - засмеялся Савченко и добавил длинную шипящую фразу с замысловатыми интонациями, из которой Вадим не понял ни слова. Но язык был, без сомнения, чешский. Теперь уже он изумился до глубины души.
- Ты знаешь чешский?
- Ovšem. Samozřejne1. Я прожил в Праге пять лет. Всего два месяца как оттуда.
Вадим хлопал глазами, как если бы увидел инопланетянина. Зависть всех цветов радуги глодала его железными зубами.
- Мой папахен работал в странном заведении под названием “Дом советской науки и культуры”, да? А я закончил не менее странное учебное заведение - “Советскую среднюю школу при посольстве СССР в ЧССР”. Честно, так даже в аттестате написано.
- А почему ты не захотел дальше изучать чешский?
- Мой папахен как раз на чешском отделении филфака и учился.
- Тем более.
- Видишь ли… - Савченко замялся. - Это трудно объяснить. Во всяком случае, никто из моих одноклассников в чеховеды не стремился. Конечно, Чехословакия красивая страна, да? Не говоря уже о Праге, но… Для нас это было повседневностью. Понимаешь, до шестого класса я считал Ленинград просто местом, где я родился, да? Зато когда мы уехали… Не поверишь, Нева снилась, Стрелка, Аничков мост. И вообще. “Союз” - это для нас было священное слово. Дни считали до летних каникул, до отпусков. Даже странно. Те, кто здесь, хотят туда, да? Неважно куда, лишь бы подальше. А те, кто там… Не все, конечно. Но все равно - ностальгия.
- Да…- Вадим не знал, что сказать. - И все-таки почему ты так удивился, что я Чапека читаю?
- А ты поищи таких, кто хоть одного чешского писателя знает. Если слышал про Гашека - уже гигант, да? А уж если “Швейка” одолел…
- Ну почему же, я читал Яна Неруду, Фучика, Немцову, Ирасека…
- Ирасека?! - они снова поменялись ролями: Савченко хлопал глазами не хуже Вадима. - Ну надо же! А ты был в Чехословакии?
- К сожалению, нет.
- Это тебе надо было на чешское отделение поступать. И читал бы до опупения, да? В оригинале.
- У меня к языкам нет способностей, - покачал головой Вадим, откладывая книгу в сторону. - Немецкий чуть не завалил на вступительных. Да и вообще, чтобы сказать что-то по-немецки, мне надо сначала про себя перевести с русского, а потом уже говорить. А друзья-чехи у тебя были?
- Конечно. Чехов у нас было полшколы. Дети шишек. Дети наших эмигрантов. Но в основном, те, кто раньше жили где-то за границей с родителями, да? И учились в таких же школах.
Вадим забрасывал Гену вопросами, и тот отвечал. Отвечал с легкой ноткой снисходительности, как профессионал, считающий все чешское “своим” по определению, - дилетанту. Позже, когда они вернулись в город, Вадим стал частенько заходить к новому приятелю в гости. Гена давал ему книги, показывал красочные альбомы с видами, рассказывал всевозможные истории. На этой почве они и подружились. Что бы там Генка ни говорил о ностальгии и повседневности, по городу, в котором прожил пять лет, наверно, самый романтический возраст, с двенадцати до семнадцати, он все-таки скучал и поэтому вспоминал свою пражскую жизнь с удовольствием.