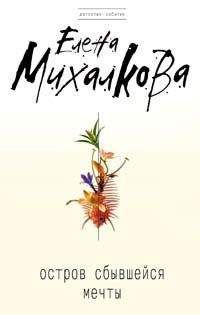Птица закричала снова – странная, непонятная Вике радость слышалась в ее крике, – и тут же с берега отозвалась вторая. Откуда-то снизу прокричала третья, еле слышно, и первая Птица ответила ей коротким вскриком.
«Как странно, – подумала засыпающая Вика, – кажется, Птица Нет была только одна… Наверное, из тех яиц, которые Питер Пэн положил в свою шляпу, уже вылупились птенцы».
Ей вдруг очень захотелось посмотреть на птенцов, которые вылупились у Птицы Нет. Но жирное черное не давало открыть глаза, и Вика осознала, что сейчас умрет, так и не увидев Птицу и ее детенышей.
Птица над ней снова вскрикнула, и на этот раз крик ее был тревожным. Два птенца не ответили.
«Я тебя увижу, – пробормотала Вика про себя, силясь открыть глаза, прогнать черноту. – Не тревожься, я тебя увижу»…
Черное давило на нее, пыталось расползтись по всему лицу, не давало никуда уйти от пустоты, заполняя мысли и чувства. Черное разрасталось, превращаясь в остров, вокруг которого скользили мурены. Словно маска, прижатая к лицу, черное закрывало от Вики все вокруг и прятало ее саму. С отчаянным усилием Вика заставила себя вспомнить Антона Липатова, и от воспоминания черная опухоль вдруг начала съеживаться, края ее обуглились. «Твой остров – он внутри тебя, понимаешь?» – насмешливо и нежно сказал Антон, словно объяснял ребенку очевидные вещи. И, поверив ему, Вика смогла, наконец, разлепить распухшие веки.
Ее резануло светом, и, щурясь от рези в глазах, она разглядела над собой Птицу Нет. У Птицы было темнокожее лицо с широким носом и большими карими глазами, блестящими, как гладкие морские камешки. Тонкими пальцами Птица бережно ощупывала Вику.
Наклонившись над Викой и пристально глядя ей в глаза, Птица провела пальцем по ее лбу и что-то негромко проговорила-прокурлыкала. Вика слабо шевельнула губами, пытаясь поблагодарить Птицу за то, что та прилетела, не бросила ее одну умирать на острове, и в эту секунду полубред-полусон растаял окончательно, и Вика поняла, что над ней склоняется человек, а позади него стоят еще двое – она видела их размытые силуэты. Что-то прохладное коснулось ее губ, и в рот потекла вода, густая, как молоко.
Жадно глотая воду, Вика прикрыла глаза, и обнаружила, что черного пятна больше нет. Вместо него перед глазами повисла сверкающая золотистая пелена. Она глубоко вдохнула и нырнула в золотое сверкание, словно в океан.
Семь дней спустя
Бабкин вошел в палату, чувствуя себя полным идиотом, поскольку в руках у него была авоська с мандаринами. Мандарины он купил сам, а авоську раскопал в закромах своей квартиры Макар, и, несмотря на отчаянные возражения Сергея, заставил того тащиться с авоськой.
– Маленькая месть за твой фокус с «Артемидой», – заявил Илюшин, наслаждаясь видом Бабкина с веревочной котомкой в руках.
– Я тебе это припомню, – пообещал Сергей. – Ты авоську специально для меня хранил? Откуда у тебя такой раритет?
– Подарок благодарного клиента. Бери мандарины – и вперед, не тяни время.
В больничную палату Сергей вошел, стыдливо пряча мандарины за спину, однако от дверей Макар исхитрился толкнуть его так, что авоська с блестящими ярко-оранжевыми шариками оказалась впереди Сергея.
– Здравствуйте, – неловко поздоровался Бабкин.
– Добрый день, Вика, – высунулся вперед Макар.
– Здравствуйте! Ой… – изумленно сказала девушка, лежащая на кровати, и глаза ее расширились. – Мандарины! Господи, как мне хотелось мандаринов!
Она взглянула на Бабкина карими глазами и улыбнулась так радостно, словно только и ждала появления Сергея, авоськи и мандаринов. От улыбки исхудавшее лицо преобразилось, став почти детским. Она была очень смуглая, очень худая – такая худая, что первыми бросались в глаза острые, будто заточенные, скулы и подбородок, а щек не было вовсе.
– Только… мне ведь нельзя мандарины, – вспомнила она, и улыбка исчезла с ее лица. Теперь она стала похожа на ту молодую женщину с фотографии, которую оставил у Макара Антон Липатов: сдержанную, серьезную, замкнутую.
– Ничего страшного. – Илюшин выдвинулся вперед, решительно отодвинул в сторону мнущегося около кровати Бабкина и выдернул у него авоську. – Оживим интерьер.
Пять минут спустя одноместная палата была украшена мандаринами. Они светились на подоконнике, на полочке под телевизором, и даже на самом телевизоре Макар пристроил пару штук, предусмотрительно смахнув с него пыль. Сергей оживленно помогал ему, чувствуя, что Макар играет в какую-то игру, и, хотя цель игры была ему неясна, он понимал, что нужно подыграть.
Вика, откинувшись на подушку, смотрела на них во все глаза. Ей уже рассказали о том, что, если бы не эти двое, ее вряд ли бы нашли так быстро. Если бы не двое частных сыщиков и Антон Липатов, который пришел к ним за помощью.
Старший был высоким, массивным и напоминал Вике собаку породы ньюфаундленд, которую зачем-то очень коротко постригли. Он брал мандарины огромной лапой и раскладывал так осторожно, словно они были стеклянными и он боялся их разбить. А младший – худой, светловолосый и взъерошенный – забавно жонглировал в воздухе двумя мандаринчиками. Когда Вика увидела его, то в первый момент не поверила своим глазам. В дверях палаты стоял выросший Питер Пэн – нет, не выросший, а лишь слегка подросший: сероглазый, улыбчивый, общительный и в то же время отстраненный от всего, что происходило вокруг него. Вике потребовалось некоторое время, чтобы убедить себя в том, что перед ней стоит не герой сказки, а живой человек по имени Макар Илюшин, который каким-то образом выяснил, что на остров Вику забросил ее собственный дядя.
– Как вы узнали? – спросила она.
Старший резко обернулся, а Макар уронил мандарин. Бабкин подошел к кровати Стрежиной и сел на стул.
– Нас предупреждали, что мы не должны вас волновать, – сказал он прямо.
Девушка посмотрела сначала на Бабкина, потом на Макара, и взгляд карих глаз стал насмешливым.
– Я провела на острове больше месяца, – негромко произнесла она. – Я почти сошла с ума. Потом я уплыла с острова – связала вместе канистры из-под воды и уплыла. Да вы знаете, наверное.
Макар с Сергеем кивнули: они знали.
– Я уплыла на второй остров, потому что была уверена, что там меня спасут. Но он оказался необитаемым. Тогда я поняла, что умру, но не догадывалась, кто все это придумал. Потом меня перестало это интересовать, и тогда я почти умерла, но меня спасли. Трое полицейских – нет, не полицейских, конечно, они называются как-то иначе… В общем, они прилетели на вертолете на первый остров, не нашли меня и уже собирались возвращаться, но один из них уговорил их долететь до второго острова. Он меня и разыскал. Меня сутки держали в местной больнице, а затем переправили на самолете сюда.
Она говорила спокойно, только иногда прикрывая глаза, словно ей было тяжело долго смотреть на Сергея и Макара.
– А здесь, как только я немного пришла в себя, ко мне явились из милиции и сообщили, что все это задумал мой родной дядя. И показали мне фотографию – на ней был Глеб из агентства, который встречал меня на Хониаре, а потом бросил на острове. И когда я узнала его, сказали, что это, оказывается, Андрей Соловченко, сосед дяди Миши, и что он действовал по плану дяди. А потом еще рассказали про вас и о том, что вы как-то узнали, что виноват именно дядя Миша, и заставили его рассказать, где я. И потом он умер.
Она чуть улыбнулась краешком рта так, словно ей неловко было улыбаться, и закончила:
– И после этого вы говорите мне, что не должны меня волновать… Смешно, правда. Вам самим не смешно?
Макар с Сергеем помолчали, переглянулись.
– Дядя Миша умер сам или он убил себя? – обыденно спросила Вика.
– Сам, – помолчав, сказал Макар. – Когда за ним пришли оперативники, он начал сопротивляться. Это было очень глупо: вы же понимаете, он – инвалид, а они… В общем, он устроил истерику, настоящий скандал и швырял в них своими книгами, чтобы доказать, что он известный писатель и они не имеют права к нему приставать…
– Он кричал, что он – известный писатель? – перебила его Вика. – Почему же не два писателя? Или не три? Под сколькими там псевдонимами писал дядя Миша, как выяснилось…
Бабкин пристально взглянул на девушку. Он начал понимать, почему она выжила на острове.
– Вы считаете меня циничной? – тихо спросила она, заметив его взгляд. – Знаете, я всю жизнь любила дядю Мишу, потому что мне некого было больше любить из моей семьи. А он всегда хотел, чтобы я восхищалась им и его фотографиями. И я восхищалась, потому что искренне считала их прекрасными, и мне нетрудно было донести это до дяди. Тем более что он – калека. И я думала, что желание восхищения им – просто слабость, не более того. Но иногда у меня мелькала мысль о том, что дяде ничего от меня не нужно, кроме признания, какой же он талантливый, и я сама не нужна, и, если вдруг я перестану ему это говорить, он не захочет меня видеть. Мне казалось, что это – гадкая мысль и от нее нужно избавиться… И только два дня назад я поняла, что была права.