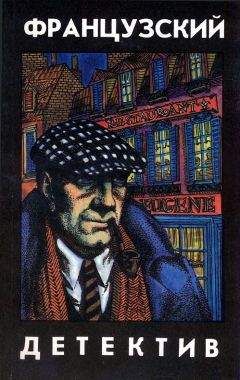— Суд разрешит мне прямо задать бывшему моему ученику один вопрос?
— Суд разрешит вам это, мсье Роделек, при условии, что вы сформулируете его сначала устно, до того как обратитесь к подсудимому с помощью дактилологического алфавита.
— Вот мой вопрос: «Жак, дитя мое, скажите, почему вы не хотите защищаться?»
— Можете задать этот вопрос, — разрешил председатель.
Пальцы старика забегали по фалангам несчастного, который при этом прикосновении вздрогнул.
— Он отвечает? — спросил председатель.
— Нет, он плачет, — ответил Ивон Роделек, возвращаясь к барьеру.
Впервые судьи увидели, как слезы текут по лицу Вотье, непроницаемая бесстрастность которого сменилась выражением мучительного страдания.
— Суд разрешает вам, мсье Роделек, задать обвиняемому и другие вопросы, — предложил председатель, который, как и все присутствующие, понял, что от появления этого старика в сутане и его слов сердце Вотье впервые дрогнуло.
— Все мои усилия будут напрасными, — ответил Ивон Роделек с грустью. — Жак будет молчать — я хорошо его знаю, — но не подумайте, что из гордости. Боюсь, что он хочет скрыть что-то, чего мы никогда не узнаем.
— Свидетель хочет сказать, что он тоже рассматривает подсудимого как виновного? — спросил генеральный адвокат.
Ивон Роделек не ответил. В публике воцарилось неловкое молчание. Виктор Дельо поспешно встал с места:
— Если мсье Роделек не отвечает, господин генеральный адвокат, то исключительно потому, что он ищет истинную причину, которая определила необъяснимое поведение Жака Вотье с момента драмы на теплоходе.
— Защита позволит мне заметить ей, — возразил генеральный адвокат, — что прокуратура, напротив, считает: поведение обвиняемого было неизменным с момента совершения преступления. Преступления, в совершении которого он неоднократно и безоговорочно признался, даже не пытаясь оправдываться. Что об этом думает его бывший учитель?
Голос Ивона Роделека снова зазвучал, на этот раз с такой горячностью, которая еще ни разу не прорывалась во время его долгих показаний:
— Я думаю, что Жак Вотье испытывает в эту минуту страдания человека, взявшего на себя вину за прегрешение, которого он не совершал. И это для того, чтобы спасти жизнь истинного преступника, которого знает он один. Поскольку суд меня просил об этом, я задам непосредственно Жаку, без особой надежды впрочем, второй вопрос.
Он снова подошел к несчастному, взял его за обе руки и, пока его длинные сухие пальцы бегали по неподвижным фалангам, громко переводил суду:
— Жак! Скажи мне, кто убийца? Я чувствую, что ты знаешь. Я уверен. Это не ты, дитя мое! Ты не способен совершить такое. Ты не можешь скрыть правду от меня, твоего учителя, который научил тебя понимать и быть понятым. Почему ты не назовешь имя виновного? Он дорог тебе? Потому что ты его любишь? Даже если это и так, ты должен назвать его, ты ведь всегда жаждал правды. Это твой долг — ты не имеешь права позволить осудить себя, поскольку ты невиновен. Почему ты молчишь? Ты боишься? Боишься чего? Кого? Ах, Жак, если б ты знал, какую боль мне сейчас причиняешь!
Обескураженный, старик медленно направился к барьеру для свидетелей, повторяя:
— Он не убивал, господин председатель! Нужно сделать невозможное, чтобы найти настоящего преступника!
— Утверждения свидетеля, несомненно, достойны сочувствия, — сухо произнес генеральный адвокат Бертье. — К несчастью, мсье Роделек забывает, что обвиняемый не только признался в убийстве, но и расписался в этом отпечатками пальцев.
— Даже если бы мне привели и более убийственные доказательства, — ответил старик, — я не поверил бы в виновность Жака…
— Суду, — перебил председатель, — известно, что вы лучше всех знаете обвиняемого. И он просит вас ответить на следующие вопросы. Повинуясь голосу совести, скажите, вы уверены, что Жак Вотье невиновен?
— По совести, — с ударением ответил Ивон Роделек, — я уверен в этом!
— В таком случае не могли бы вы высказать суду ваши предположения относительно личности истинного преступника?
— Как я могу? О смерти молодого американца я узнал только из газет — как все.
— Полагаете ли вы, что, несмотря на упорное молчание и отказ отвечать, Жак Вотье вменяем?
— Я уверен в этом. Только какая-то неизвестная нам тайна заставляет его молчать.
— Его интеллектуальные способности, которые вы развивали в течение многих лет, действительно очень высокого уровня?
— Жак — один из самых организованных умов, какие я когда-либо встречал в течение своей долгой жизни.
— Вывод, следовательно, простой: все, что делает Жак Вотье, он делает умышленно. Что вы думаете о его романе «Одинокий»?
— Я о нем такого же хорошего мнения, как и все, кто его прочел без предвзятости, — ответил старик мягко.
— Он написал его один или с чьей-либо помощью?
— Жак написал свою книгу алфавитом Брайля исключительно сам. Моя роль сводилась только к тому, чтобы переписать ее с помощью обычного алфавита.
— Считаете ли вы, что книга отражает подлинные чувства автора?
— Я думаю, что да… Это одна из причин, не позволяющая мне допустить, чтобы человеку, написавшему такие превосходные страницы о милосердии, могла даже на мгновение прийти мысль причинить зло ближнему.
— Среди этих страниц, квалифицируемых свидетелем как «превосходные», — заметил генеральный адвокат, — есть и посвященные собственной семье автора, которые с моральной точки зрения обычному читателю могут показаться довольно сомнительными.
— Я всегда сожалел об этом, — признался Ивон Роделек. — Но мои попытки уговорить Жака исключить некоторые страницы оказались напрасными. Юный автор неизменно отвечал: «Я написал и всегда буду писать только то, что я думаю, иначе я был бы неискренним по отношению к себе самому».
— Суд благодарит вас, мсье Роделек, и считает необходимым отметить, прежде чем вы покинете зал заседаний, важность того благородного дела, которым вы с вашими сотрудниками заняты в тиши института в Санаке.
— Я предпочел бы, господин председатель, — ответил старик угасшим голосом, — никогда не удостаиваться подобной похвалы в таком месте и при таких обстоятельствах.
Сгорбившись и опустив голову, Ивон Роделек направился к выходу. Этот прекрасный человек не сознавал, какое впечатление его спокойные и взвешенные, трогательные в своей искренности показания произвели на суд, присяжных и всех присутствующих.
Даниель Жени испытывала те же чувства, что и большинство из находившихся в зале людей. Даже не прилагая особых усилий, благодаря только своему здравому смыслу и благородству, директор института пролил свет на темную до тех пор личность подсудимого. Кульминацией в его долгом выступлении был тот момент, когда у обвиняемого после прямого вопроса учителя потекли из потухших глаз слезы. Завеса вдруг спала, и Даниель, как и многие другие, подумала, что сильный человек, способный плакать, должен иметь сердце. Эта мысль резко ослабила впечатление от животной физиономии, сквозь которую стало вдруг проглядывать человеческое лицо. Она убеждала себя, что слезы сделали Вотье почти красивым. Может быть, ей это только казалось? Однако она была уверена, что заметила в ту минуту выражение чувства на грубом, бесстрастном лице. У нее было ощущение, что слепоглухонемой видел и слышал лучше, чем нормальные люди, — таким внезапно открытым выглядело его лицо.
Впрочем, это была только искра, которую усилием воли Вотье быстро погасил и снова надел маску бесчувственного монстра. Теперь, снова всматриваясь в него, Даниель спрашивала себя, не стала ли она, как и все присутствующие, жертвой коллективной галлюцинации? Но нет, «зверь» плакал…
— Доктор Дерво, — сказал председатель после традиционного выяснения личности свидетеля, — нам известно, что, имея обширную клиентуру в Лиможе, вы работаете одновременно в институте в Санаке, где бываете три раза в неделю для оказания медицинской помощи воспитанникам. Следовательно, когда в этом была нужда, вам приходилось лечить Жака Вотье?
— Да, действительно. Но я должен сразу сказать суду, что благодаря своим исключительным физическим данным Жак Вотье почти никогда не болел. На другой день по прибытии в Санак я тщательно его обследовал в присутствии мсье Роделека. Состояние здоровья ребенка было нормальным. Впоследствии он удивительно быстро развился. Поэтому мсье Роделек без всяких опасений мог заниматься его воспитанием, в чем он достиг замечательных успехов.
— Свидетель считает, что воспитание, данное Жаку Вотье мсье Роделеком, — замечательное? — с иронией спросил генеральный адвокат Бертье.
— Надо быть просто недобросовестным, чтобы не признать этого. И мое мнение тем более беспристрастно, что, в отличие от членов братства Святого Гавриила, я всегда верил не в чудо, а в науку. Мсье Роделеку удалось постепенно преодолеть физическую ущербность Жака Вотье, лишенного некоторых чувств, интенсивным развитием тех, которые у него оставались и нормально функционировали. В отличие от мсье Роделека я всегда считал, что доброта прекрасно может существовать без того, чтобы на нее навешивать религиозный ярлык. Поэтому, когда через несколько дней после прибытия Жака Вотье мсье Роделек высоко отозвался об уме своего нового ученика, я сказал ему примерно следующее: «Почему бы вам не попытаться воспитать этого маленького Жака, не забивая ему голову Евангелием? Доверьтесь больше естественному ходу вещей, хотя бы по системе Жана Жака Руссо, которую он описал в «Эмиле»».