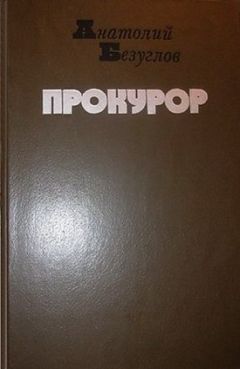Борис Матвеевич, молчавший долгое время, вдруг рявкнул:
— Замолчи ты, наконец!
— А почему это я должна молчать? — опешила Лиля.
— Говоришь так, словно речь о каких-то щенках! Это ведь люди! Понимаешь, живые люди! — Он со злостью ударил рукой по баранке. — Ей-богу, лучше помолчи. Ты, Захар, как надумал поступить?
— А ты, Боря, что стал бы делать на моем месте? — вопросом на вопрос ответил Измайлов.
— Дочь есть дочь, — убежденно произнес тот.
— Вот именно! — произнес Измайлов. — Она не виновата! — Он повернулся к Лиле. — Я должен с ней встретиться и сказать правду.
— Ну и глупо! А о Галине ты подумал? — возразила Лиля. — Легко вы, мужчины, относитесь к семье.
…Самым тяжелым для Измайлова были последние ступеньки перед своей дверью. Он решил рассказать Галине все.
Ключ долго не попадал в замочную скважину. В квартиру Захар Петрович вошел с бешено колотившимся сердцем. Были приготовлены первые слова объяснения. Но его встретила тишина. Мертвая тишина. Все окна почему-то были наглухо закрыты.
Тягостное предчувствие холодом обдало душу.
На столе в большой комнате белел лист бумаги.
Измайлов взял его в руки. Галиным почерком было написано всего одно слово: «Прощай». Тут же лежала фотография Марины с маленькой Альбиной на коленях.
И, как последняя капля, как точка, которая отбивала конец чему-то, на столе лежало обручальное кольцо Галины…
* * *
После работы Гранская зашла на рынок за зеленью и овощами. Обещала прийти Вера Самсонова. По холостяцкой привычке Инга Казимировна не баловала себя разносолами, но для подруги решила приготовить что-нибудь вкусное.
Вера пришла в длинном свободном платье из бледно-зеленого японского шелка. Женственная, воздушная. Особую прелесть придавала ей россыпь родинок на шее. Глеб Артемьевич как-то сказал, что эти самые родинки и свели его когда-то с ума.
Самсонова сидела на кухне, пока Инга Казимировна священнодействовала над гуляшом по-венгерски, готовить который научил ее Кирилл.
— Не понимаю я тебя, — сказала Инга Казимировна. — Отпуск, а ты торчишь в Зорянске. Съездила бы куда, встряхнулась…
— Поеду, поеду. И может быть, навсегда, — вздохнула Самсонова.
— Что-что? — не поняла Гранская.
— Ничего, — тихо ответила подруга. — Я так… Понимаешь, Ингуша, год какой-то тяжелый. Ничего не получается. Даже статью, которую заказали в журнале, не могу осилить.
— Спокойное солнце, — сказала Инга Казимировна.
— В каком смысле?
— Ученые считают, что на нашу психику влияет активность вечного светила… Эйнштейн, например, свои знаменитые работы написал в те годы, когда на Солнце были всплески. В это время хорошо творили писатели, композиторы. Берлиоз, Россини, Паганини… А солнечная активность повторяется через одиннадцать лет.
— Тогда подожду, — улыбнулась Вера. — Может, действительно озарит. А пока остается наслаждаться творениями других. Знаешь, я открыла для себя Бальмонта… — Она достала из сумки томик. — Из Москвы друзья прислали…
— Бальмонт… Это тот символист?..
— Ингуша, ну зачем обязательно клеить ярлыки? — как от боли, поморщилась подруга. — Просто прекрасный поэт.
И она, раскрыв книжку, прочла:
— О, люди, я вслушался в сердце свое
И знаю, что ваше — несчастье…
Увидев, что эти строки не произвели на подругу впечатления, она перелистала томик.
— А вот послушай еще:
Я хочу порвать лазурь
Успокоенных мечтаний.
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь!
— Слишком много «я», — заметила Инга Казимировна.
— Ладно, — вздохнула Самсонова, пряча книгу в сумку. — У каждого свой вкус… А, между прочим, Бальмонт в свое время был кумир, почище, чем теперь Евтушенко или Вознесенский. Правда, с закидонами.
— Обыкновенный псих.
— Вовсе нет! — возразила Вера. — От поэтического и душевного экстаза…
— Я же говорю, юродивый.
— Бальмонт был образованнейший человек. Читал на всех европейских и древних языках…
— Вернемся к прозе жизни, — сказала Инга Казимировна, ставя приборы на стол. — Лично я голодна, как волк.
— Знаешь, хорошо приготовить — тоже поэзия… Ну и пахнет! Божественно!
Однако к еде она едва притронулась. И чем больше Гранская приглядывалась к приятельнице, тем сильнее замечала в ней какую-то перемену. Синева под глазами, которую не могла скрыть косметика, замедленность, нерешительность в движениях, печальный взгляд.
— Ты плохо ешь, голубушка, — сказала Инга Казимировна. — Я понимаю, другое дело у тебя в саду, на свежем воздухе…
— А мне там нечем дышать, — с каким-то тихим отчаянием призналась Самсонова.
И Гранская поняла, что подруга пришла к ней не для того, чтобы болтать о поэзии… Что-то тяжелое было у нее на душе.
— Я в последнее время часто вспоминаю один случай. Мне отец рассказывал. Он ведь в сорок первом воевал в ополчении под Москвой… Как-то был жестокий бой, погибла масса народу. Отца тоже ранило. Но легко. Ползет он под пулями. Слышит стон. Видит, в снегу, в луже крови, девчонка. Совсем молоденькая, школьница еще. С санитарной сумкой. Отец наклонился к ней, говорит, держись, мол, сейчас я тебя перевяжу и дотащу до наших. Она смотрит на него и головой качает. Отец ей: чего тебе? Попить? И подставляет к губам фляжку. А девочка шепчет: «Поцелуйте меня… Меня еще ни разу никто не целовал…»
Самсонова замолчала.
— Умерла? — спросила Инга Казимировна.
— Отец не знает. Вытащил он ее с поля боя. Отправили в тыл, в госпиталь… И вот я думаю: а была ли у меня в жизни любовь?
— Вот те на! — изумилась Инга Казимировна. — Прожила с мужем полтора десятка лет…
— Ну и что? — перебила ее Вера.
— Да и Глеб…
— Не то, не то ты говоришь, — поморщилась Самсонова. — Не помню, почему и как я вышла за него. Что-то показалось… А на самом деле… она вяло махнула рукой.
— Просто ты вбила себе в голову! — решительно сказала Гранская. Пройдет. Я читала, в семейной жизни бывают кризисы. Первый раз — после женитьбы. Все мы ждем чего-то необыкновенного и разочаровываемся… Второй кризис — когда подрастают дети. Это очень опасный момент. Действительно, Катька твоя почти невеста…
— Катя ни при чем… — Самсонова сцепила свои длинные пальцы. Она сидела некоторое время, потом с болью и отчаянием сказала: — Жить не хочется.
Инга Казимировна испугалась.
— Не говори глупостей! Что ты решила?
— Не знаю, Инга, не знаю. Ничего не знаю. — Вера безвольно опустила руки на стол. — Весь ужас в том, что и хочу уйти от Глеба и не могу… Ты что на меня так смотришь?
— Переживаю за тебя.
— А мне показалось, боишься.
— И боюсь.
— Не надо, — серьезно сказала Вера. — Я не люблю, когда меня жалеют.
У Гранской немного отлегло. Она достала припрятанную пачку сигарет. Но Вера решительно отобрала у нее курево.
— Бросила, так крепись, — сказала она. — Тоже мне, следователь…
— Вот такая ты мне нравишься, — нервно засмеялась Инга Казимировна. Так в чем же дело? Какая муха тебя укусила?
— Все очень сложно…
— Или очень просто… Я дам тебе почитать одну статью в психологическом журнале. Это, по-моему, то, что тебе надо знать. А зная болезнь, можно считать, что уже наполовину вылечилась…
— Интересно, — с иронией протянула Самсонова. — Что же в этой статье?
— Как раз твой случай. Понимаешь, при длительной несовместимости двух супругов возникают разные расстройства — депрессия, раздражительность. Дальше — хуже. Неврастения, ипохондрия, психопатия… Махните-ка вы на юг. Будь с ним понежней, дурачься…
— Ну-ну, — продолжала иронизировать Вера. — Интересно…
— Еще один вопрос, — увлекшись, продолжала Гранская. — Не замечала, Глеб в последнее время не прикладывался к рюмке?
— Да, в общем, не прочь, — неопределенно ответила Самсонова.
— Типичный случай! — воскликнула Гранская. — У мужчин добавляется склонность к алкоголю. Так сказать, компенсация и…
— Эх, Ингуша, — остановила ее жестом подруга. — Ты ничего не поняла… Один писатель сказал замечательные слова о человеческом общении. Он так и считает, что человеческое общение — это роскошь!.. Взять хотя бы тебя и Кирилла…
Но она не договорила. Хлопнула входная дверь, которую Гранская по привычке не закрывала днем на запор. В прихожей раздались чьи-то уверенные шаги и стук поставленного на пол чемодана.
На пороге кухни возник сын. Загорелый до черноты, в выцветшей рубашке.
— Юрочка! — Инга Казимировна бросилась к нему. Юра смущенно поцеловал мать и поздоровался с гостьей.
— Здравствуйте, Вера Георгиевна.
— Здравствуй, здравствуй! Тебя прямо не узнать…