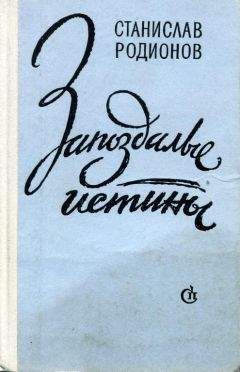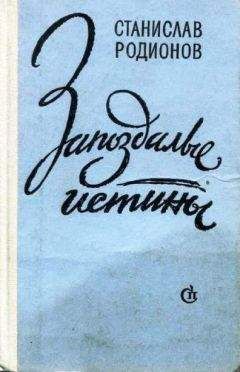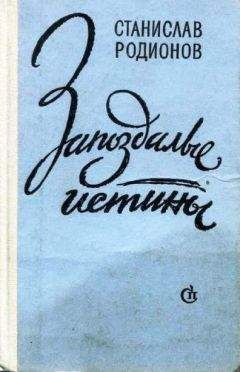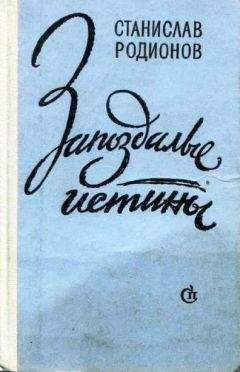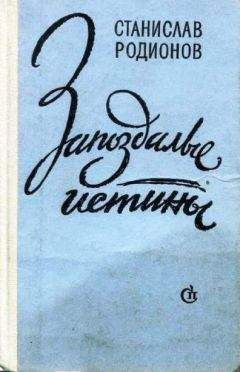В передней полыхнул лисий чуб Леденцова. Он ворвался в квартиру и свирепо уставился на открывшую ему хозяйку.
— Дурак, — обидчиво сказала Дарья и скрылась в комнате.
Тогда он побежал в глубину коридора к сцепившимся телам, сразу оценив результаты борьбы.
— Подай-ка вон там кусок веревки, — попросил Петельников.
Леденцов подал, разглядывая Сосика.
— Товарищ капитан, почему у слова «бешеный» одно «н»?
— А сколько нужно?
— Минимум три. Человек же бешеннный!
У Сосика губы двигались так, что их нервная сила передавалась всему лицу.
— Сзади нападать легче, верно? — спросил его Леденцов.
— Тебя-то и спереди отделаю, — огрызнулся Сосик.
— Теперь ты уже никого не отделаешь, — внушительно разъяснил ему лейтенант.
— Это главарь? — спросил высоченный и широченный парнишка, в котором Петельников узнал Мишу Ефременко.
— Да, это главарь.
— Нет, не главарь, — бросила сердитая Дарья, выбежав в переднюю.
Дверь в комнату осталась распахнутой. У телевизора с черепом стояла Вика-«школьница» и спокойно курила.
Леденцов перевернул страницу очередного детектива и прочел:
«С каким удовольствием он проехался бы по его роже землечерпалкой, чтобы тот не воображал себя таким красавцем».
Перед его глазами непрошено забелело лицо Сосика. Надменное в баре, перекошенное в Дарьиной квартире, слезливое в кабинете следователя...
Леденцов уткнул взгляд в раскрытую книгу:
«Прожженная моим взглядом, она запылала, как четыре ведьмы!»
И опять привиделось непрошеное: теперь пустое лицо Вики-«школьницы» с голубоватыми, полупрозрачными глазами...
В передней заворчал телефон.
— Боря, тебя! — крикнула мама.
Он с удовольствием оторвался от злополучного доклада.
— Леденцов на приеме!
— Боря, это я, Наташа...
— Какая такая Наташа? — ненатурально удивился он, не скрывая этой ненатуральности.
— Наташа. Из Политехнического. Та самая...
— Здравствуйте, Наташа, — осторожным голосом, словно говорил с больной, поздоровался он. и умолк.
Молчала и Наташа, надеясь на его рыцарство. Но Леденцов затянувшуюся паузу перетерпел.
— Боря... хотите встретиться?
— Конечно, хочу, — шумно обрадовался он.
— Когда?
— Хочу, но не могу.
— Все... работа?
— Не-ет. У меня, Наташа, расстройство желудка.
— Расстройство?
— Извините за выражение, живот пучит и так далее. Наташа, вы догадываетесь, что я имею в виду под выражением «так далее»?
Трубка запищала. Леденцов сожалеюще положил ее на рычажки — ему хотелось развить тему о пучении живота.
Прощать можно, прощать нужно. Но не предательство же.
Он вернулся в свою комнату и опять сел за детективы. Если доклад он не кончит, то в райотделе его заедят насмешками. Вчера начальник, седой полковник, остановил в коридоре и попросил процитировать что-нибудь этакое. Даже в управлении прознали, что пишется доклад века...
За спиной он услышал шаги — так тихо ходят только матери. Она села на диван, сбоку, чтобы беззвучно смотреть на его насупленный профиль. Леденцов опять с готовностью отклеился от детектива.
— Боря, хочу с тобой поговорить...
— О пользе супа?
— Боря, твой дед был известным химиком...
— Отец был известным геохимиком, а ты известный биохимик.
— Да, а ты никому не известный милиционер.
— Неправда, мама. Шпане моего района я хорошо известен, как, скажем, Альберт Эйнштейн хорошо известен физикам.
Ее красивое лицо, наверное волевое в деле, сейчас было обессилено материнской заботой. Каштановые волосы, завернутые в вольную копну, делали ее такой домашней, что мысль об известном биохимике никому бы не пришла в голову.
— Боря, ты достаточно поболтался в этом розыске. Пора выбрать в жизни главное направление.
— Мама, а я люблю все второстепенное.
— То есть?
— Например, поет солист. А мне нравится не он, а его безголосые подпевалы.
— Дурачишься?
— Мне нравятся не красавицы, а их подружки. Пельмени люблю не домашние, а казенные, где мяса поменьше...
— Боря, — перебила она. — Твой отец в твоем возрасте уже защитил кандидатскую.
— Мам, не хочу я тратить время на чепуху.
— Не болтай. На количество кандидатов тоже существуют планы.
— А капитан Петельников говорит, что стране нужны не кандидаты, а мясо, нефть, древесина...
— Твой капитан не понимает, что, чем больше кандидатов, тем в конечном счете больше нефти и древесины.
— В такой расклад он не верит, мама.
Ее моложавое лицо не то чтобы омрачилось, а почти невидимо потеряло свою здоровую чистоту, словно окунулось в пыльную тучку. Так бывало всегда при упоминании имени Петельникова. Ее сердце не могло смириться с чужим влиянием на сына, которое оказалось сильнее материнского. И кто влияет — не ученый, не писатель, не артист... Милиционер, капитан.
Леденцов положил руку на ее плечо, припорошенное волосами, которые не уместились в вольную копну.
— Мам, у Петельникова все как...
— У тебя, — досказала она.
— Нет, у меня не так.
— Почти как у тебя.
— Совсем не как у меня.
— Хорошо, почти как не у тебя, — усмехнулась она устало.
— Мам, он работает, как слон.
— Многие так работают.
— Он ничего не боится.
— Смотрите, какой...
— Он выполнит любое задание. На него можно положиться, как на себя нельзя...
— Ну уж!
— Мам, он собирает доски по свалкам.
— Зачем?
— Квартиру отстраивает.
Последний довод неожиданно перевесил все остальные. Она задумчиво смотрела на сына, дружившего со столь странным человеком. А сын улыбался, уверенный в своей, все-таки непонятной для нее правоте.
— Он супермен какой-то, — решила она.
— Супермен, мама, старается для себя.
— А твой капитан?
— А Петельников... для граждан микрорайона.
Леденцов нервно глянул на книжно-бумажный ворох, в котором зрел и никак не мог созреть его доклад.
— Пиши-пиши, — сказала она и встала, так и не кончив вечного их разговора.
Инспектор опустил взгляд на ждущую страницу.
«Мэри стояла в дверях в голубом пеньюаре, который распахнулся ровно на столько, на сколько нужно. Все это было бы неплохо, если бы в руках она не держала кольт тридцать восьмого калибра...»
В кабинет его несло какой-то приятной силой.
Ни допросов, ни очных ставок, ни обвинительных заключений, ни подпирающих сроков... Свободный день после дежурства, его день. «Хочешь быть свободным — носи дешевые костюмы». Кто это сказал? Неважно, он тоже может сказать. Допустим, так: свобода состоит не в том, чтобы ничего не делать, а в том, чтобы делать с охотой. Невнятно, но афористично. Кстати, на нем восьмидесятирублевый костюм цвета жухлого слона, если только бывают такие слоны. Свободный день не от дешевого ли костюма, жухлого?
Он шел быстро, вдыхая морозный и колкий воздух, — как пил охлажденное шампанское. Крупный снег падал так редко и равномерно, что казался нескончаемой сеткой, которая никак не может опуститься на город. Рябинин даже пробовал проскочить меж снежинок. И все-таки в прокуратуру он пришел запорошенный, как очкастый Дед Мороз.
Кабинет встретил его припасенной тишиной, словно догадался о настроении хозяина, — никто не ждал в коридоре, под дверь не было сунуто никаких обязывающих записок, не звонил телефон. Рябинин снял пальто и нетерпеливо потер руки...
Давно, когда он только начинал работать в прокуратуре, старый, седой и издерганный следователь порекомендовал собирать собственные обвинительные заключения. Рябинин к совету прислушался. Но эти обвинительные высекли собирательский зуд ко всему, что касалось преступности. Он записывал интересные уголовные случаи, вырезал статьи о криминальных происшествиях, конспектировал описание судебных процессов. Затем пошла криминальная психология — загадочная и разнообразная, как человеческий дух. И однажды во время допроса Рябинин поймал себя на непроизвольном действии — на клочке бумаги, потихоньку от свидетеля, он быстро чиркнул пришедшую мысль. Так и пошло. Теперь он не давал летучим мыслям растворяться там, где они растворялись до сих пор — в духовном небытии. Заслонившись от вызванных — даже на очной ставке, — Рябинин писал стремительно, точно клевал бумагу шариковой ручкой; писал не буквами, а какими-то символами, которые потом не всегда и понимал. Этих бумажек скопилась щекастая папка. Ее он и взял из сейфа, обманув надежды других папок и папочек, стопок бумаг и стопочек бумажек.
Рябинин сел за стол, предвкушая радость от дешифровки этих мыслей. Конечно, много глупости; конечно, много банальности... Да ведь и крупицы золота тоже моют в пустом песке. В конце концов, свобода состоит не в том, чтобы ничего не делать, а в том, чтобы делать с охотой...