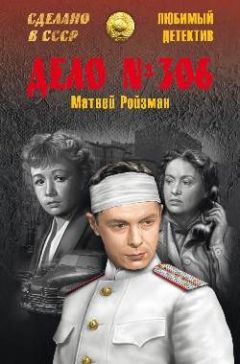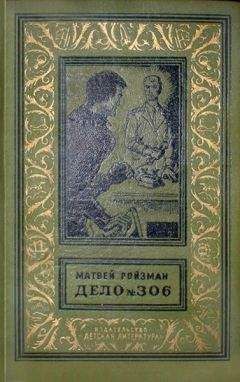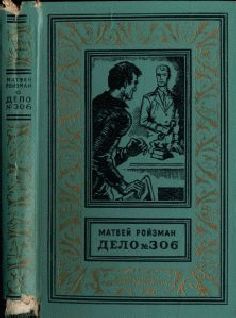Когда я задал этот вопрос Белкину, он ответил, что съемки происходили в его отсутствие и лучше всего об этом спросить консультанта фильма Савватеева.
— А сейчас у нас стоп-машина! — продолжал он. — Надо наконец продемонстрировать на экране скрипку «Родина», а старичок ее расклеил, и еще, ко всему, у него из мастерской стырили ее дно и рисунки с цифрами, по которым ее выпиливают!
Оператор доверительно сообщил мне, что это неожиданный удар для кинорежиссера: Разумов собирается жениться на молодой скрипачке и для нее заказал Золотницкому инструмент самой высокой марки.
Приехал Разумов. Он набросился на оператора, браня его за то, что не пересняты два кадра для очередного выпуска киножурнала «Наука и техника». Белкин вскочил, проговорил: «Сей момент! Будет сделано!» — и убежал.
Роман Осипович — сорокалетний, худощавый, со спадающей на лоб каштановой прядью волос и прозрачно-серыми глазами — пожал мне руку. Пробежав глазами мое редакционное удостоверение, он уселся рядом со мной. Я посочувствовал ему, что затормозилась съемка «Кинопортрета» и работа над заказанной Золотницкому скрипкой.
— Не желаю говорить об этом Кощее Бессмертном! — резко заявил Разумов. — Он у меня вот где сидит! — и, наклонив голову, хлопнул рукой по шее.
— Разве мастер виноват в такой неприятности? — вставил я.
— А я виноват?! У меня сорван план, заработок, следующая работа! Эх! — в сердцах выкрикнул Разумов. — Был бы умнее, черта лысого связался бы с «Кинопортретом» этого копухи! Сделал «Родину», прослушали — высший сорт «А»! «Погодите, переделаю, потом снимайте!» — «Ладно, Андрей Яковлевич! Только поскорей». — «Сказал: сделаю, мое слово свято!» Слушаем вторую «Родину». Говорят: «Затмили Страдивари!» Моя скрипачка просит: «Это сама мечта! Роман! Умолите мастера — пусть сделает и мне к Новому году! Ведь перед гастролями скрипку обыграть надо!» Пошел к нему, говорил, цену накинул. Отказывается: «Пока свою не кончу, не могу. Я должен все скрипки превзойти! „Родина“ — это плод всей моей жизни!» Будь прокляты все скрипки в мире! Бог с ним, с моим заказом, но свою бы кончил! Фильм горит!
— Неужели вы не нашли выхода?
— Нашел. За две недели до того, как украли красный портфель…
— Разве он был красный?
— Этот Кощей сам вынимал его из несгораемого шкафа… За две недели до кражи я просил дирекцию разрешить заснять в финале «Кинопортрета» вместо «Родины» «Жаворонка». Что, плохо? Дирекция одобрила, но мой консультант Савватеев уперся: «Нельзя! Снимали, как делают „Родину“, а звучать будет „Жаворонок“!» Да разве кто поймет, какая скрипка на экране? Все же в руках диктора и звукооператора.
Дальнейший разговор между мной и кинорежиссером я не воспроизвожу потому, что и так было ясно: Роман Осипович не мог тридцатого декабря, находясь в мастерской, унести красный портфель. Он же сам торопил работу над третьим вариантом «Родины». От этого зависел и фильм, и его личный заказ. Впрочем… Зачем же он хлопотал о замене «Родины» «Жаворонком»? Может быть, здесь ключ к тайне? Нет, надо точно выяснить, что и как можно сделать с нижней декой и табличками. Режиссер остается под подозрением.
Без двадцати минут четыре я вошел в квартиру Золотницких. У Любы были заплаканные глаза и сильно напудрено лицо. Мы прошли в столовую. И я услыхал, как Михаил Золотницкий репетирует на скрипке сонату Бетховена. Сев против Любы, я спросил, чем она расстроена. Ах, прошептала она, только что с ней говорил Андрей Яковлевич. Ему очень плохо, отказывает память, он начал заговариваться: сегодня несколько раз назвал ее Анной — именем покойной жены.
Я стал успокаивать ее, доказывая, что все-таки он — кремень. Я уверен: найдись сейчас красный портфель — и он бы ожил, воспрянул, стал бы работать вовсю. Характер! Таких людей работа держит до ста лет! Красный портфель нужен! Работа!
— Да? — спросила она и, подняв голову, посмотрела на меня.
— Конечно! Ну а «секреты» — это пустяк. Его «секреты» получились не сами собой. Разве до него не существовало русской скрипичной школы? Потом советской? Разве не обучал его Мефодьев? Или вы думаете, он сам создал все на пустом месте?
— Каждый художник, даже самый маленький, имеет что-то свое.
— Иначе он не был бы художником! — воскликнул я.
Лицо Любы стало светлеть. И я испытывал такое ощущение, какое переживаешь, стоя ранним утром в поле, и видишь, как медленно яснеет горизонт.
— Почему же он так убивается из-за пропажи расчетов? — вновь заговорила она. — Их ведь можно снова составить. У него есть ученики… Наконец, мой Михаил..
— Ученики — это пока только одно название! — не складывал я оружия. — А Михаил Андреевич безусловно ученик своего отца, и, кстати, отсюда все качества и характер. Упрям!
— Вот-вот! — подхватила она. — А я жена Михаила. И отсюда все мои качества!
Что она хотела этим сказать?
Из спальни донесся плач Вовки. Люба мягко коснулась рукой моего плеча, словно прося подождать, и убежала, шурша юбкой.
Скрипка умолкла. Значит, Михаил Золотницкий в любой момент мог выйти в столовую, а мне хотелось побеседовать с ним наедине. Я быстро подошел к двери его кабинета, постучал и вошел. Он укладывал скрипку в футляр, кивнул мне головой. Я четко видел его лицо, на которое падал свет из окна.
— Я давно хотел вам сказать, — начал я, — что в редакции мне показали вашу статью о грунте. По-моему, она написана с большим знанием дела.
— Бьюсь второй год, чтоб ее опубликовали, и ничего не выходит. Говорят — слишком специальна для общей газеты… Пожалуйста, пройдитесь по ней карандашиком. Буду благодарен.
— Хорошо! — согласился я. — А теперь… Надеюсь, что все останется между нами?
— Конечно!
— В шкафах системы Меллера, внутри, бывают секретные ящики, которые запираются на особый ключ?
— В шкафу отца есть такой ящик. А почему вас это интересует?
— Не хранил ли ваш отец в этом ящике свой красный портфель?
— В последнее время отец к шкафу никого не подпускал. Да я сам к нему не подходил. Зачем волновать старого человека?
— Я не могу понять, когда проникли в шкаф: ночью или днем?
— По-моему, днем!
— Вы так думаете?
— А как же? Днем отец кладет ключи куда попало. А сам — вы это знаете! — возьмет да засядет за рабочий стол, а то приляжет, приняв нитроглицерин.
— А ученики?
— Уйдут и исчезнут. Мальчишки!
— Не могли ли они…
— Да нет! Для чего им нижняя дека и таблички?
— Разве в портфеле были эти вещи?
— Так отец говорил. Для учеников и дека и таблички — китайская грамота. Потом, они любят отца. Учитель!
— Но ведь ученики могли это сделать не для себя? Мало ли людей, которые не прочь взглянуть на деку и таблички?
— Ученики не станут это делать. Сложно и рискованно!
— Да почему? Мастер ушел с головой в работу или у него приступ стенокардии. В одно мгновение можно взять ключи, открыть шкаф, вынуть портфель и унести.
— Нет, ученики любят отца, — повторил Михаил. — Все они — отличные мальчики. Да и опасно: выгонят, а то еще под суд отдадут.
— Значит, остается одно: портфель взял чужой?
— Как бы не так! Ученики в любую секунду могут войти в подсобку.
— Ни ученики, ни чужой! Тогда кто же?
— Я уже ломал над этим голову. Даже допуская, что это сделал постоянный заказчик. Ну вышла такая минута: отец после припадка заснул, ученики разбрелись, ключи торчат в замке несгораемого шкафа.
— Разве так случалось?
— Да! — ответил Михаил Золотницкий, кинул на меня острый взгляд и продолжал: — Да, торчат ключи! Заказчик открывает дверцу шкафа. А дальше что? Отец никому о красном портфеле не говорил, а о том, что находится в нем, и подавно.
— Вы уверены, что ваш отец никому об этом не говорил?
— Уверен!
Я спокойным голосом, мягким тоном, не глядя на Михаила Золотницкого, нанес ему удар:
— Значит, о том, что в портфеле дека и таблички и что портфель хранится в секретном ящике, знали только вы?
— Да! — подтвердил скрипач и, спохватившись, подался ко мне грудью вперед. — Что вы хотите сказать?
— Ровным счетом ничего… — И, немного помедлив, спросил: — А вы знаете, что коллекционер Савватеев часто заглядывал в мастерскую?
— Да что вы, честное слово! — забормотал музыкант скороговоркой. — Это же такой человек, такой…
— Как по-вашему, — упорно продолжал я, — известно было архитектору, где хранится красный портфель и, главное, что в нем лежит?
— На кой черт ему дека и таблички? — зачастил Михаил Золотницкий. — Что он, станет делать скрипку?
Почему скрипач так яро защищает Савватеева? Может быть, они связаны одной веревочкой? Музыканту были нужны нижняя дека и таблички к третьему варианту «Родины», а коллекционер стремился, на худой конец, сфотографировать их…