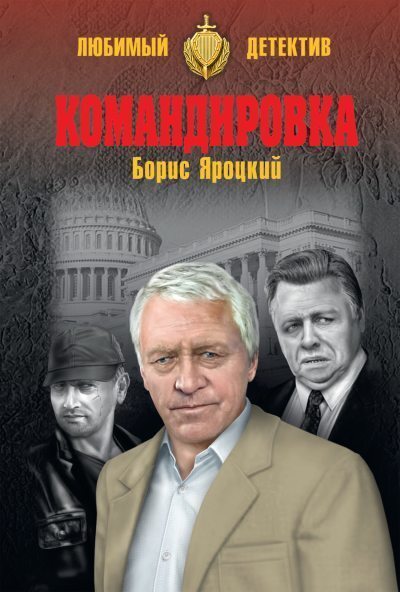Подобное варварство произошло на всех заводах города: всюду были видны следы разрухи, напоминающие подвалы Сталинграда в дни великой битвы.
Невольно в памяти возникла картина далекого детства. Семилетнего Ваню отец возил на водяную мельницу — к мельнику на пасеку. Они опоздали на целый год. Пасеки уже не было, мельница стояла, так как мельник, как потом оказалось, был арестован: говорили, что он кого-то утопил. Мельника освободили после того, как утопленник сам объявился — вернулся из Сибири, куда ездил на заработки. Но мельницу уже пустить не удалось. Пока мельника держали под арестом, мужики из ближайших сел увезли жернова, из плотины выдернули дубовые сваи — и вода ушла. Единственным утешением для мельника было извинение прокурора….
Иван Григорьевич смотрел на бывшую заводскую лабораторию, а видел разоренную страну. Кто-то когда-то извинится перед народом, но позволят ли народу подняться на ноги? Годы работы в Пентагоне такой уверенности не внушали. Он знал тех парней, которые для России планировали разруху, знал тестя-сенетора, для которого Россия — что для быка красная тряпка.
— Будем, Миша, подбирать людей.
— Будем, Иван Григорьевич. Но прежде — надо найти валюту.
— Надеюсь, для доброго дела найдем. А вы тем временем составьте список, что нужно в первую очередь, во сколько это обойдется.
— Приборы бы…
— Может, с приборов и начнем…
— Мне бы, Миша, проскочить в Москву. В институте микробиологи когда-то у меня были друзья. Но проскочу, когда встречусь с сыном. А сегодня, знаешь, кого я хочу видеть?
— Свои будущие кадры?
— Верно! Вот если бы Надежда Петровна Забудская согласилась поменять бездействующую школу на действующую фирму.
— Тогда — к Забудским. Но сначала, Иван Григорьевич, как я обещал, посетим заводскую столовую. Там сегодня отмечают день рождения.
— Ваш?
— Не столько мой…
Зашли в столовую. Здесь было многолюдно, и пиршество, судя по начатым бутылкам, уже началось.
— А мы ждали, ждали, — стал было извиняться Дубогрыз, приподнимаясь.
Этого крупного хлопца Иван Григорьевич заметил сразу, как только переступил порог столовой. Почему-то вспомнилась русская песня, которую однажды в Пентагоне исполняла заезжая артистка из России:
А я люблю военных,
Красивых, здоровенных…
По щекастому пунцовому лицу было видно, что капитан Дубогрыз уже изрядно выпил. Он посадил рядом с собой Ивана Григорьевича, налил ему граненый стакан какой-то желтоватой жидкости.
«Никак “гурьмовка”, настоенная на зверобое?» — подумал гость, но брезговать не стал: «Гурьмовка» так «Гурьмовка», люди же пьют, не травятся.
— За мной должок, — говорил Дубогрыз, подмигивая.
Он поискал по столу глазами, нашел. Это была разрезанная на половинки крупная луковица. Армейским ножом подцепил кусок сала, положил его на черный хлеб, и этот бутерброд вместе с луковицей пододвинул гостю. На столе, кроме хлеба, лука и сала, другой закуси не было.
Кто-то громко провозгласил:
— За именинника! Не дадим ему погибнуть!
Странный тост. Иван Григорьевич отпил из стакана с опаской. Жидкость — что-то между водкой и самогоном, по запаху все же самогон, а по крепости не сильно уступает спирту.
Дубогрыз, жарко дышащий винным перегаром, заметил, что гость не пьет.
— Да вы не беспокойтесь, — уговаривал он, подмигивая. — Это не «гурьмовка», это обыкновенный самогон. Первач. Из сахара. Конечно, на травках. А «гурьмовка», настоящая, слегка отдает мочевиной. Алкаши пьют как газировку. А к запахам они принюхались. У нас вокруг любого пивларька земля пропитала мочевиной чуть ли не до Соединенных Штатов Америки. Уже давно известно, что «гурьмовка» — это пойло рабочего класса — дешовое и хмельное. Итээровцы, конечно, тоже пьют, когда уже все выпито и пить больше нечего. Не вам объяснять, пьяный интеллигент лакает что угодно, лишь бы оно было на халяву…
Иван Григорьевич слушал Дубогрыза и не слушал, раздумывая над странным тостом.
— Хорошо, что Мише не дадите погибнуть…
— Да не Мише, — возразил Дубогрыз. — Заводу. Наш завод был пущен ровно сорок лет назад. И в этот день, как по заказу, родился Миша Спис. О появлении у знатного отца наследника сообщили на митинге, посвященном пуску завода. Тут же отправили в роддом телеграмму. От имени заводского коллектива. А Мишин отец, Василий Семенович, формовщик, в этот час делал первую отливку первого снаряда для новой стотридцатмиллиметровой противотанковой пушки… — И, прервав рассказ, обратился ко всем: — Наш завод нам еще пригодится! Так, ребята?
Дубогрыза уже никто не слушал, разве что Иван Григорьевич. Всем хотелось высказаться.
— А должок за мной, — продолжал Дубогрыз. — Я помню.
— А я вот не помню, — сознался Иван Григорьевич, напрягая память: — Какой должок?
— Какой? Я обещал представить вас товарищу полковнику. Недавно видел этого грозного полковника. Он вспомнил вас и очень удивился. Стал горячо меня расспрашивать. А что я про вас знаю? Рассказал, как мы ездили в областной центр.
— И где вы его видели?
— Там же… В селе. Я ездил за продуктами. А за плавнями у них там база. Ну и подсобное хозяйство.
Дубогрыз говорил несвязно, сбивчиво.
— Они все там… Там дисциплина… Учеба. Сами себя обеспечивают. Что поделаешь, если государство не может. Без родни в селе вот все мы, — широким жестом показал на товарищей, — все мы были бы дистрофиками… А случись нашествие, слабосильные Родину не прикроют…
Догадался Иван Григорьевич, о каком грозном полковнике идет речь.
— Вам когда удобнее с ним повидаться?
— При первой же возможности.
— Усек.
Столовая гудела. Офицеры, бывшие военпреды, отмечали сорокалетие завода, а заодно и день рождения своего товарища.
Вскоре Дубогрыз, взглянув на часы и попрощавшись только с Иваном Григорьевичем, покинул застолье. Иван Григорьевич сравнил, как за океаном, в кругу коллег по Исследовательскому центру он участвовал в подобных попойках. Как здесь, так и там, чужих не было (Джона Смита они считали своим), и там, как здесь, пили не меньше, а может, и больше. И там, как и здесь, господствовал корпоративный дух. И здесь, как и там, говорили о повседневной жизни: о деньгах, о женщинах, и меньше всего о противнике. Здесь никто не ругал американцев, как и они не ругали русских. Хорошо, что был противник, а значит, были хорошо оплачиваемые рабочие места, в данном случае должности. Так что и здесь и там над умными головами витал дух противника. Никто друг друга не побеждал — существовало военное равновесие, названное политиками «холодной войной». И когда руководители Советского Союза перебежали из одной тарелки весов на другую, противник стал весомей — и советская супердержава взлетела на воздух, рассыпалась на отдельные княжества, и князья одного партийного клана разбежались по своим удельным княжествам. У кого же осталось традиционное чувство патриотизма, тот оказался не у дел, а некоторые, более строптивые, очутились в тюремной камере. Вся обстановка отличалась от Средневековья лишь тем, что бывшие члены бывшего политбюро не выкалывали друг другу глаза и не душили в застенках, хотя и выбрасывали из окон управделами, знавшими, куда ушли партийные деньги.
Как только партийные руководители предали свой народ, офицеры Прикордонного, пожалуй, первые ощутили, что по ним ударила Америка: военпреды оказались не нужны, и за океаном сразу же спало напряжение: Россия уже не представляла собой грозного монстра. Военная мощь России уже не излучала страх. Но страшней было другое: Америке не требовалось столь много военных. Военным, особенно высокого ранга, стало страшно терять работу. И умные головы Пентагона рассудили здраво: если противника нет, его надо создать, в противном случае будет тощим военный бюджет.
Пентагон ответил конгрессу: противником Америки на все времена останется Россия. Она одна на ближайшие десятилетия может выручить Пентагон. Ее нельзя добивать, как фашистскую Германию. С Германией тогда поспешили — настояли русские. И сами же русские просчитались. Тогда была бы Америка не врагом, а союзником. А Германию время от времени давили бы. Такова ее судьба. Она любит начинать войны, притом на чужих землях, а заканчивает обычно на своих.
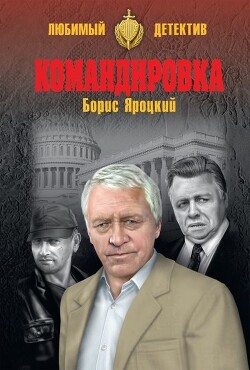
![Командировка [litres] - Борис Михайлович Яроцкий](https://cdn.my-library.info/books/359518/359518.jpg)