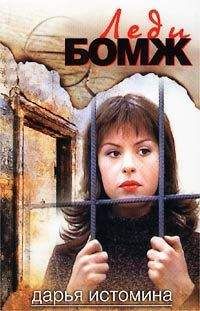— Что он орет? — спросила я.
— По-моему, это тост! За мое здоровье! — сказал Сим-Сим. — А может быть, за твое? Знаешь, он тебя любит! Я, кажется, тоже… А впрочем, не уверен! Тяпнешь?
— Зачем я тебе нужна? — психанула я.
— Не помню. — Он как-то странно захихикал. Повар запел что-то военное. Это было уже совершеннейшее безобразие, я обиделась и ушла. Но в знак протеста не в спальню, а в свою светелку.
Тут появилось кое-что новое. На кровати лежала большая плоская картонка перламутрового цвета, перевязанная синей лентой. В картонке оказалась легонькая, почти невесомая, английская шуба из чернобурки с серебряной сединой, с неснятыми ярлыками фирмы и салона. Ласковый длинный мех пах новизной и пушисто отсвечивал.
Я не удержалась и влезла в шубу. Попадание было совершенно точное по размерам, будто ее шили на меня. Шуба была скроена колоколом, длиннющая, до пят, с громадными, как муфты, манжетами, но небольшим невысоким воротом. К шубе прилагался пристежной капюшон, он же шапка, он же капор, из такого же ореольно-невесомого, матово-черного, с чуть заметным бурым оттенком, кое-где переходившим на кончиках в серебро, лисьего меха. Модель была супермодная, с тем чуть заметным намеком на средневековье, которым щеголяют именно британцы. В ней было что-то от коронационной робы королевы Елизаветы. Я не удержалась и покружилась еще разок. Полы раздулись и потом мягко обвили мои ноги.
И все было бы прекрасно, если бы не записка от Элги, лежавшая на подзеркальнике «Вам надлежит быть полностью готовой к 6 часам 40 минутам (утра!)».
В общем-то, я не совсем дура и догадывалась, что меня ожидает. Очевидно, нет ни одной нормальной женщины, которая не предчувствует этого, главного дня. Которого она ждет, к которому готовится. Но в том, что происходило здесь и сейчас, было что-то гнусное и обидное.
Они все решили без меня — Сим-Сим. Элга и — кто там еще?
Даже что именно мне надевать. Потому что здесь еще были упаковки, картонки и даже пластиковый чехол в шкафу, в котором отвешивался строгий английский костюм темно-серого, благородно-мышиного цвета, с узкой и длинной юбкой до щиколоток и боковыми разрезами, чтобы шаг был свободным. Жемчужного цвета кофточка с небольшим жабо, тонкие перчатки, шарфик в тон, новая сумка — красно-коричневая, на узком и длинном ремешке, с серебряным замком и застежками — Элга Карловна не забыла ничего. И в этом было что-то унизительное, как будто меня, как породистую кобылу, долго, продуманно и старательно, не забывая вовремя подрезать копыта и подковывать, скармливали отборными овсами, отпаивали теплым пивом, чистили, холили, лелеяли, гоняли на корде и проверяли на тренировочных пробежках — и вот наконец решили, что меня можно выпускать в первый публичный заезд на скачках, не боясь, что я могу опозорить высокую репутацию его фамильной конюшни и лично самого владельца…
Я отшвырнула ногой шубу в угол, села к зеркалу, закурила и заплакала. Я до сих пор не знаю, что я оплакивала. Вряд ли то, что первая брачная ночь будет для меня далеко не первой. В этом смысле сейчас любая мочалка из седьмого или восьмого класса может дать мне недосягаемую фору.
Наверное, я плакала от того, что у меня не было, нету и уже никогда не будет той смешной и трогательной, но кажущейся неизмеримо важной хлопотни, которая предваряет каждое нормальное бракосочетание. Это когда с подружками (я бы согласилась даже на Ирку Горохову) обсуждается, какое именно платье сшить или купить, дабы оттенить белоснежность предполагаемого целомудрия, что делать с шляпкой, а главное, с фатой — полной вуалью или вуалеткой? Какие будут кольца — из ювелирки или заказные, какими — перчатки и мемориальное бельишко, сколько и каких гостей приглашается на выпивалище и едалище, где и как будет это происходить, кто и что будет свадебно дарить, так чтобы не оказалось с десяток лишних электроутюгов или кофемолок, кто займется цветами, кто будет отвечать за торжественный экипаж с эмблемными кольцами на радиаторе или на крыше и каким он будет — ограничиться ли отечественной «Волгой» или заказать белый «роллс-ройс» с наворотами..
Эти рыдания для меня были полной неожиданностью. Я-то всегда считала себя совершенно не похожей на других, испившей из высокоинтеллектуальных источников, совершенно трезвой и почти циничной особой, для которой вся подобная возня — лишь повод для иронии и насмешек. Но оказывалось, что если поскрести оболочку, то под нею обнаруживалась стандартная провинциальная дура, которая ждет этого события с неясной надеждой и трепетом и которая способна хранить до гробовой доски и эти самые перчатки, и вышеназванную фату, и идиотские цветные снимки всей процедуры, и поздравления на открытках с ангелочками, чтобы когда-нибудь, шамкая и придерживая выпадающую вставную челюсть, сказать гипотетической внучке: «А бабуля у тебя была — ого-го! Видишь?»
И светлая слеза печали стечет по моей морщинистой щеке…
М-да…
Я еще немножко порыдала, но уже о том, что я бедная полусиротка, и никого-то у меня из родных и близких не наблюдается, чтобы повести меня к венцу и передать, трепещущую, робкую и нежную, в руки новому владетелю.
Панкратыча, конечно, уже не было по вполне серьезной причине, но уж моя беспутная мамочка могла бы по такому случаю вынырнуть из своего небытия, хотя бы в сопровождении своего грузинского овощевода. Хотя допускаю, что его уже сменил кто-нибудь из новых, неизвестных мне мужей. Впрочем, она могла бы и послать меня ко всем чертям; я прикинула и поняла, что к нынешнему дню она еще не разменяла полтинник и при ее неустанной заботе о своем здоровье, своей внешности и жажде утех могла бы выглядеть весьма молодо и привлекательно, и показать публике, что у нее уже дочка двадцати шести годов, для нее могло быть — нож острый… Но что я, увы, о ней знаю? Может быть, как раз все было бы и наоборот?
Не знаю, сколько бы я еще рыдала, но тут обнаружила на столике здоровенный фотоальбом, в кожаных корочках, с металлическими застежками. Я раскрыла его и поняла, что подсунуть его мне могла только Элга. Это была полная панорама жизни Нины Викентьевны Туманской. Которую, по-моему, тщательно и собирала эта полутевтонская стерва.
Начинался этот мемориал со снимков каких-то глинобитных мазанок с плоскими крышами, в тополях. Судя по всему, это была какая-то Средняя Азия. и я вспомнила, что Сим-Сим как-то обмолвился, что Туманская была когда-то учительницей после окончания математического факультета в пединституте не то в Ташкенте, не то в Алма-Ате. Кажется, ей прочили большое математическое будущее, но она предпочла оттянуть положенный срок в учителях. "Похоже, альбом и начинался с той поры: тоненькая девица в белой кофте с галстучком была снята в классе, у доски, в окружении бритых наголо пацанов в тюбетейках и девочек в полосатых платьях из хан-атласа и с черными головами в мелких косичках. С гладкой прической, строгая и какая-то неулыбчиво-надменная, Туманская вовсе не походила на ту, которую я сумела увидеть. Но узнать ее было можно.
Снимки были не оригинальные, со старых, пересъемка, что можно было понять по размытым краям. Там еще было всякое пейзажное, какие-то арыки, плоская степь с ажурными нефтяными вышками, и я никак не могла понять, зачем мне это подсунуто. Но среди страниц была закладка, и когда я перекинула картонные листы с фотками, поняла: мне демонстрируется свадьба.
Какие они, значит, были счастливые Туманская хохотала, сидя на здоровенном надменном верблюде, босая, но в том самом белом платье и нахлобучке с развевающейся фатой, о которых я только что думала. а Сим-Сим в горных ботинках, коротких шортах, но в черном жениховском сюртуке с «бабочкой» и крахмалке, в армейском пробковом шлеме пустынного образца тянул за повод верблюда куда-то в их светлое будущее и тоже счастливо скалился. Он был тощий и молодой.
Потом были сценки из свадебного процесса: под виноградными гроздьями вокруг ковра с блюдами поддавали и закусывали какие-то бабы душманского вида, более молодые загорелые мужики и женщины и целующиеся Сим-Сим и Нина. Это, наверное, когда им вопили: «Горько!» На коврах высились стопки лепешек, стояли полосатые чайники, лежал здоровенный вскрытый арбуз с алой мякотью в черных семечках и было много персиков, гроздей черного и светлого винограда.
А на одном снимке была лишь одна Туманская, вскинувшая лицо к небу, заплетающая над головой тонкие руки в громадных восточных браслетах, вскинувшаяся на цыпочки, гибкая и невесомая, и было понятно, что она танцует что-то азиатское.
На кой черт Элга мне подсунула эти шехерезадно-знойные картинки, я сначала не поняла. Но потом дошло: это не просто обычная ревниво-бабская подлянка. Это она мне еще раз напоминает, что Сим-Сим и Викентьевна были по-настоящему близки и счастливы, там и тогда у них начиналась семья, и они по-настоящему любили друг друга. И этого мне никогда не вычеркнуть, как бы я ни старалась. И все, что есть или может быть у нас с Сим-Симом, — это совсем другое, как бы уже бывшее в употреблении и вторичное. Потому что ничто не может повториться — ни эта женщина, ни молодой Сим-Сим, ни их время.