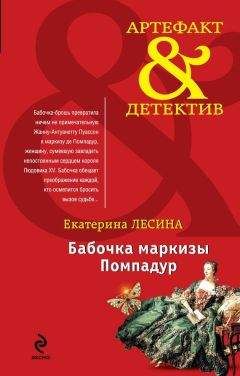– Привет, – Алина смахнула пот со лба и поморщилась – средство воняло. – Ты куда пропала?
– Да так…
Уклончивый ответ не в Дашкином характере. И значит, опять что-то случилось, о чем Дашке и хочется рассказать, и в то же время останавливают сомнения – как Алина отнесется к этому рассказу.
– Не хочешь со мной ничем поделиться?
Дашка вздохнула и спросила:
– А ты?
– Я хочу. Приезжай. Я в маминой квартире…
Именно – маминой, пусть мама и уехала в Японию на год, но квартира все равно ее. Она некогда выбирала обои и плитку, и пол, и мебель, и даже те редкие безделушки, которым нашлось место на книжных полках. И если Алина хочет вырасти, ей нужно создать собственный дом.
Вот только одобрит ли Леха ее переделки…
– Ссориться будем? – на всякий случай уточнила Дашка, что было благоразумно с ее стороны, так как ссорилась Алина крайне редко, зато от души и надолго.
– Нет. Обедать будем. Сырной запеканкой и маффинами.
Обед всегда был веским аргументом во всех беседах с Дашкой. Оставалось воплотить этот аргумент в реальность. И это тоже займет некоторое время…
Алина все-таки позвонила Лехе. Попыталась. Но он не взял трубку, и, значит, был занят.
Нехорошо отвлекать занятых людей.
Офис встретил Леху тишиной. Нет, не совсем чтобы тишиной: гудел кондиционер, шелестело в трубах, и ветка березы скреблась о стекло. Пахло свежим кофе. И на столе стояла кружка с недопитым латте, еще теплая.
– Эй, – Леха кружку вернул на место. Как-то не нравилась ему эта тишина. И пустота. – Славка, ты где?
Если друг оказался вдруг… нехорошая мысль. Подловатая. Чушь собачья, а не мысль. Славка – он свой, и значит, если чего-то и случилось, то не из-за него, а с ним. Но Леха разберется. Он никому не позволит друзей трогать. Их у него не так и много осталось.
Собственный Лехин кабинет был заперт. И похоже, что несколько дней в него не заглядывали. Славкин тоже пустовал… затянулись каникулы. Но остальные-то где?
Егоров закуток… стул. Стол. Шкаф. И клетчатый шарфик на полу. Шарфик Леха поднял, повесив на спинку стула. Запах туалетной воды, дорогой, но все же по-женски сладкой. Ежедневник в обложке из крокодильей кожи. Егор старается соответствовать образу.
– Есть кто живой?
Стены отразили Лехин голос, но и только. Вот какого лешего он тут делает? Надо уходить. Звать полицию. И пусть они землю роют, только… что с полиции? Ну офис. Ну пустой. Ну и что?
А ничего. Так, нервишки пошаливают, господин хороший. К доктору обратитесь.
В бухгалтерии идеальный порядок, который всегда Леху пугал. Вот невозможно так, чтобы нормальный человек беспорядка не учинял. Противоестественно! А тут… Шкафы. Сейф. Два компа. Два стула. Один фикус в желтой кадке. Две кружки на подоконнике – красная с белым сердечком и белая с красным. Настенный календарь за позапрошлый год с кроликами и котятами. Бурая капля крови на полу… и вторая… третья. Точка, точка, запятая… дорожка из темных зерен, ведущая к подсобке. Там хранились швабры, тряпки, тазик и пустые цветочные горшки, купленные некогда под влиянием душевного порыва в тщетной попытке облагородить офис.
На осколках сидел Максик. Ноги спутаны. Руки связаны. Рот заклеен скотчем. А голова в крови, все лицо залило. Вот и что за хренотень тут происходит?
Но Максик был определенно жив. Он шумно дышал разбитым носом, а когда Леха подхватил его за шиворот, пытаясь вытащить из подсобки, задергался, замычал.
– Тихо. Это ж я, Леха.
Взгляд у Максика был безумный.
– Тихо, кому сказано. Не дергайся. И плакать не надо.
Но стоило снять скотч, как Максик заплакал. Без слез, но по-бабьи, с подвываниями. Изо рта потянулись нити слюны, да и нос закровил.
Леха молча распутывал веревку, стараясь сдержать глухое бешенство, основной причиной которого следовало признать вопиющую Лехину беспомощность. Что бы тут ни случилось, это произошло по Лехиной вине.
На Максиковой голове виднелась рваная рана, но небольшая. Шишки не было. И вообще, если разобраться, то побили его несильно.
– Пошли, умоешься, – Леха помог несчастному подняться. Ноги того не держали. – Кто ж тебя так?
– Я сам, – спокойно ответил Макс, отстраняясь. И прежде чем Леха успел сообразить, шеи коснулось что-то холодное.
Стало больно.
И пусто.
Это ж надо было таким идиотом уродиться!
«…Здравствуй, Шарль. Я не знаю, зачем продолжаю писать тебе, наверное, по привычке. В сердце моем не осталось любви, ни к тебе, ни к кому бы то ни было.
Я чувствую себя зеркалом, в котором отражаются другие люди.
Король… он охладел ко мне. И пожалуй, очень скоро мне не останется места не только во дворце, но и во дворе.
Друзья… их немного, и держатся сугубо из надежды, что я вернусь.
Враги… эти верны, как никто иной. И ждут моей бесславной кончины. А верность надо вознаграждать. И скоро их ожидания сбудутся.
Смотрюсь в зеркала и вижу не себя, но Жанну-Антуанетту, смешную некрасивую девочку, которой хотелось изменить себя. Не могу отделаться от мысли, что вместе с бабочкой я приняла чужую судьбу. Не знаю, чью именно, но… все должно было быть иначе.
Лучше?
Хуже?
Не так.
Наверняка я была бы куда более ограничена в средствах. И вряд ли познакомилась бы со двором, тем паче не стала бы той, кем являюсь ныне. Но отчего так горько за ту, другую, непрожитую жизнь. Возможно, в ней я была бы счастлива?
Глупая надежда, дорогой Шарль. Но сегодня я решусь на то, на что следовало бы решиться давно. Я отпущу мою бабочку, и будь что будет…»
Огонь с благодарностью принял письмо. И женщина потянула руки к пламени, удивляясь тому, сколь прозрачной стала ее кожа.
Она знала о новом пари – удастся ли очередной фаворитке короля, которые менялись слишком быстро, чтобы их запомнить, сместить маркизу де Помпадур. И знала о раздражении королевы, к которой фаворитка не сочла нужным проявить уважение. И о том, что ума у девушки не хватит, чтобы надолго удержать внимание Его Величества…
Почему-то будущее, даже не собственное – страны, – виделось ей темным, пугающим.
И Жанна-Антуанетта, так и не согревшись, отошла от камина. Она открыла коробку – бархат поистерся, но бабочка по-прежнему была яркой.
– Луиза, подойди сюда.
Горничная, девушка некрасивая и тихая, появилась тотчас. Она была исполнительна и добра к хозяйке, так не будет ли злом отплатить ей за доброту подобным даром?
– Луиза, ты когда-нибудь хотела изменить свою жизнь?
– Да, госпожа.
Еще Луиза не умела врать. Какой отвратительный недостаток.
– Тогда возьми, – маркиза де Помпадур протянула бабочку. – Если вновь захочешь, то надень ее. И встань перед зеркалом. Подумай о том, какой ты хочешь стать…
Луиза с поклоном приняла подарок. Не засмеялась, не испугалась, но, напротив, кажется, поверила.
– Только будь настойчива…
…и уродливая гусеница превратится в прекрасную бабочку…
– …и учти, это будет другая судьба. Не твоя.
– Да, госпожа. А вы…
– Я устала. Мне надо прилечь.
Как ни странно, Жанна-Антуанетта спокойно уснула и проснулась же, удивившись тому, что жива. Неужто все, о чем она думала, – лишь игра воображения?
За окном шел дождь, и маркиза, вдохнув сырой воздух, четко осознала: она умрет, и скоро. Болезнь, дремавшая долгие годы, очнулась ото сна. Но все-таки время еще есть…
– Сволочи! Ну какие же сволочи! – Дашка бегала по кухне, точнее пыталась, но места было мало, а мебели так, напротив, и Дашка постоянно на что-то натыкалась. Это ее еще больше злило, а злость придавала ускорения.
Алина ела запеканку.
Дашка сама успокоится, надо только переждать. Сейчас же говорить что-либо бессмысленно, во-первых, попросту не услышит. Во-вторых, если все-таки услышит, все равно переврет.
– И я… с ним… – она пнула холодильник и все-таки остановилась. – С этой скотиной…
– С которой именно? – на всякий случай уточнила Алина.
Мало ли, в жизни всякое случается.
– Со Славкой…
– Когда?
– Вчера.
Дашка посмотрела на тарелку, уже опустевшую, перевела взгляд на мамину керамическую форму, в которой еще оставалось запеканки, и, приняв мудрое решение съесть столько, сколько получится, переставила форму на тарелку.
Ела она молча, но при этом жевала с таким остервенением, словно желала заесть и обиду.
– Я все равно бы его бросила, – сказала она. – Ну мы ж не пара!
– Не пара, – с Дашкой, когда она пребывала в подобном состоянии, следовало соглашаться.
– Он – мажор с запросами. А я – нормальный человек. У меня работа! И… и вообще. Сволочь.