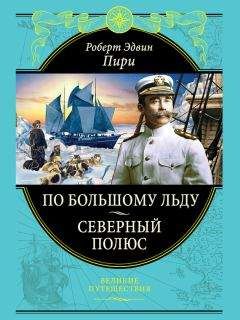— Горячий сегодня день, — вслед ей сказал помощник Алябьева. — Министра финансов ждут, а он из… непримиримых.
Варвара Дмитриевна кивнула и совсем вознамерилась уйти, но молодой человек не унимался.
— Госпожа Звонкова, — он придвинулся поближе, шапка у него в руках тряслась. Нервическая дрожь, что ли? — Нельзя ли мне на минутку видеть князя Шаховского?
Что это такое, помилуйте, всем сегодня с утра нужен князь, да Варвара Дмитриевна и понятия не имела, можно или нельзя! Князь перед заседаниями бывал особенно озабочен, многочисленные важные и мелкие дела требовали его внимания, да и Муромцев, председатель, ни минуты не мог без него обойтись.
— Зайдемте и узнаем, — предложила Варвара Дмитриевна довольно холодно.
— Нет, нет, мне никак нельзя!.. Вы не могли бы… вызвать его сюда?
Генри Кембелл-Баннерман при этих словах Бориса нашел нужным негромко зарычать, и госпожа Звонкова вдруг натуральным образом перепугалась.
Разумеется, в Таврическом дворце не было и не могло быть никакого отпетого народа. И полуциркульный зал заседаний, и кулуары, и сад наводнены приставами. Дюжие молодцы с серебряной цепью на шее жестко блюли порядок, особенно в дни, когда в правительственной ложе появлялись министры. Террористы вряд ли могли проникнуть в Думу, но по всей России они продолжают убивать. То и дело приходили известия из Твери, Самары и других городов — там убит губернатор, а здесь прокурор, а то и телеграфист, почтмейстер. Эсеры и эсдеки — социал-демократы, к которым как раз и принадлежал Алябьев, — продолжают убивать жестоко и безрассудно, и прогрессивная русская общественность решительно не знает, как следует относиться к этому явлению. И Варвара Дмитриевна не знала!.. Вроде бы убийства и жестокости творились на благо революции и дела освобождения, но… все же страшно очень! Князь Шаховской утверждает, что террор нужно непременно осудить публично, с думской трибуны, ибо парламент не сможет работать, пока не наступит в стране успокоение, но осудить — значило косвенно поддержать правительство, а следовательно, ненавистное самодержавие!..
… А вдруг этот человек с его шапкой… из этих? Вдруг он задумал страшное, сейчас прогремит взрыв, — Варвара Дмитриевна знала, что при последнем акте было убито двадцать семь и ранено больше ста человек, — и ничего этого больше не будет. Ни сада, ни Генри, ни решетки, увитой шток-розой, ни майского свежего утра. И ее, Варвары, не будет тоже. Только куча окровавленной плоти в комьях вывороченной земли, расколотая надвое мраморная чаша, запах пороха и гари.
— Нет, — пробормотала сильно побледневшая Варвара Дмитриевна и отступила. — Нет, нет!..
— Помилуйте, мне на одну минуту только!..
— Генри! За мной!
Бульдог вскочил и следом за хозяйкой забежал за французское окно. Варвара Дмитриевна моментально повернула витую ручку.
В комнате никого не было, кроме князя Шаховского. Он пробегал глазами какие-то бумаги, и когда ворвалась госпожа Звонкова, поднял голову.
— Что с вами, Варвара Дмитриевна? Вас что-то напугало?
— Там… человек. Он странный.
Князь одно мгновение изучал ее лицо, а потом подошел и стал рядом. Она смотрела в сад.
— Никого нет, Варвара Дмитриевна.
И в самом деле — никого не было на дорожках и возле решетки со шток-розой. Сад опустел перед заседанием совершенно.
Варвара Дмитриевна коротко вздохнула и незаметно вытерла влажную ладонь о юбку. Все это ей показалось странно и очень нехорошо.
— Убитого зовут Павел Ломейко, — выговорил Шаховской с усилием. Тело, которое только что унесли санитары, перестало быть просто телом и обрело вполне человеческие знакомые черты, и профессору трудно было это осознать. — Я хорошо его знал.
— Ломейко Павел Игоревич, — подтвердил полковник Никоненко, — по документам так и установлено. Значится директором музея. А вам-то он откуда известен?
— Какого музея?
— Это музей, — и Никоненко показал почему-то на камин с мраморной полкой. — А потерпевший, стало быть, его директор. Был.
— Позвольте, это здание никогда не было музеем!
…Вот ученый народ, это надо же, подумал полковник с веселым раздражением. Ты ему про труп, а он тебе про музей! Ну, вот какая ему разница, музей тут или, может, пивная?!
— С прошлого года здание отдали под музей, а Ломейко назначен директором. Откуда вы его знаете, а?
— Музей чего?!
— Я не знаю. Музей и музей. Вам потерпевший откуда известен, Дмитрий Иванович?
Шаховской зачем-то принялся опять натягивать резиновые перчатки, которые только что бросил.
— Павел Ломейко в прошлом году собирался защищать докторскую диссертацию. Я был назначен его оппонентом.
— И чего он? Провалился с треском?
— Защита не состоялась. Я прочел монографию, потом затребовал текст целиком, и… в общем, до защиты его не допустили.
— Да что такое случилось-то с этой защитой?! — Вот чего Никоненко терпеть не мог, так это когда при нем умничали и говорили загадками!
— Текст оказался скомпиллированным из докторской диссертации профессора Серебрякова почти двадцатилетней давности. Защищался Серебряков в Томском университете. Павел Игоревич, попросту говоря, все украл. Плагиат. Это нынче повсеместное явление.
— А вы, стало быть, вывели его на чистую воду?
— Я не понимаю, что вас так раздражает, — сказал Шаховской полковнику. — Я стараюсь помочь. Как могу. Так получилось, что Серебряков еще аспирантом читал у нас в университете спецкурс. Я его помнил отлично. Это правда случайность! Если бы Серебряков не читал, а меня не назначили оппонентом…
— Помер бы этот самый Ломейко доктором наук, — закончил за Шаховского полковник. — А вы тогда с ним сильно поссорились, профессор? С потерпевшим?
— Он приезжал объясняться, мы поговорили… довольно резко. Я, кажется, сказал ему, что воровать нехорошо, а он просил не устраивать скандала.
— А вы все равно устроили!
— Я довел до сведения аттестационной комиссии, что текст диссертации не имеет никакого отношения к соискателю и написан совершенно другим человеком много лет назад, — отчеканил Шаховской. — И привел доказательства. Больше мы с ним не виделись. Я понятия не имел, что он директорствует в музее! — Тут профессор подумал немного. — Видимо, у него были значительные связи, раз уж после всего этого его сюда назначили.
— Ну, связи мы все проверим. А вы его не убивали, профессор? Просто чтобы очистить науку от всей и всяческой скверны?
Шаховской посмотрел полковнику в лицо. Эксперт Варвара, возившаяся со своим чемоданчиком и делавшая вид, что ничего не видит и не слышит, перестала возиться и покосилась на профессора и полковника.
— Я не убивал, — сказал Шаховской. — Впрочем, это все тоже проверяется, правда? Я с самого утра был в университете, читал лекции, а потом в Думе, откуда вы меня и привезли.
Они еще посмотрели друг на друга и отвели глаза. Поединок кончился вничью. Варвара снова принялась тихо возиться.
— Чашка, — Дмитрий Иванович взял со стола фарфоровую штуку. — Значит, так. Мейсен, примерно середина девятнадцатого века. Видите, клеймо, скрещенные голубые мечи? В восемнадцатом вот здесь, внизу, еще рисовали звезду, а в двадцатом, до тысяча девятьсот тридцать пятого года, наоборот, вверху ставили точку. Здесь нет ни того, ни другого. Рисунок, традиционный для мейсенского фарфора, называется «синие луковицы», не знаю почему.
Никоненко слушал очень внимательно, ехидных вопросов не задавал.
— Мейсенские сервизы были в основном у аристократов, у августейших фамилий, разумеется. Все изделия расписываются исключительно вручную с тысяча семьсот девятнадцатого года и по сей день. Чашка в прекрасном состоянии. Такое впечатление, что она лежала в каком-то специальном хранилище.
— Я вам сейчас покажу это хранилище.
— А императору она могла принадлежать? — спросила подошедшая Варвара.
— Какому?
— Ну, не знаю. Николаю Второму, например?
Шаховской пожал плечами.
Неподдельный интерес к императорам, который в последнее время охватил всех без исключения, его раздражал. Кто только и каких только глупостей не писал и не рассказывал про этих самых императоров, стыдно читать и слушать. Почему-то принято считать, что интерес к ним означает интерес к истории отечества, но писали как раз больше про фарфор, наряды жен и дочек, мундиры и прочую ерунду. Вот, например, о том, что Петр Великий почти грамоте не разумел и до конца жизни не умел в слова гласные вставлять, так и писал одними согласными, и указы его собственноручные разобрать было невозможно даже по горячим следам, никто не упоминал, а это важно, важно!.. Гораздо важнее для понимания личности грозного реформатора, чем кафтаны, Анна Монс и фарфоровые чашки!..
— Эта чашка могла принадлежать кому угодно, — сказал Шаховской Варваре, которая, по всей видимости, тоже интересовалась императорами. — Николаю Второму в том числе. Или его отцу, Александру Третьему. А могла не принадлежать ни ему, ни его папе.