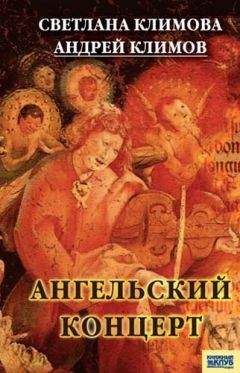Сразу скажу: в этот пасмурный полдень купеческий ренессанс и дурак-арендатор по фамилии Толстоухов интересовали меня меньше всего.
В дверях галереи меня едва не сбили с ног двое рабочих, волочивших гигантский холст в пудовой раме. Мелькнули фиолетовые лица, сведенные столбнячной судорогой конечности персонажей, — и картина проплыла мимо. За рабочими, покрикивая, следовал бородатый молодой человек, обмотанный шарфом, как бедуин. Очки в золоченой оправе прыгали на его потном носу.
Я протиснулся внутрь. В галерее, занимавшей весь первый этаж, царила разруха. Снятые с кронштейнов полотна, закутанные мешковиной, сиротливо жались к стенам. Между ними суетились девушки-консультантки. Пол был затоптан и усыпан стружкой, обрывками шпагата, клочьями оберточной бумаги.
Никем не замеченный, я пересек помещение и уже взялся было за перила, как наверху лестницы возник Павел Матвеевич Кокорин. Хлопая полами плаща и весь развеваясь, он шумно скатился вниз, с разбегу сунул мне руку и энергично закричал:
— Валентин! Суффальдинова — на северную стену. Там свет получше!
С улицы в дверь просунулась голова в очках и бурнусе и закивала. Сквозь витрину было видно, как ко входу в галерею неуклюже пятится здоровенный трейлер.
— Что у вас тут происходит? — спросил я.
— Экспозицию меняем. Полностью. Хватит с меня этих позавчерашних концептуалистских винегретов! Галерея существует для того, чтобы продавать живопись… Жутко спешу, Егор Николаевич, — добавил он уже поспокойнее. — Вас подвезти?
— А что покупают сегодня? — спросил я, словно не расслышав предложения.
— О! — Кокорин широко распахнул руки, словно обнимая этим жестом сразу всех потенциальных клиентов, и тут же их уронил: — Настоящей живописи все равно на всех не хватит, да и недешевое это удовольствие. Зато существует грандиозный ресурс, и ресурс этот только-только начинают осваивать. Не золотое, скажу вам, дно, но бизнес требует определенных усилий. С тех пор как это направление вошло в моду, трудно уже представить солидный офис без одного-двух холстиков…
— Это о каком же направлении речь?
Павлу Матвеевичу явно было не до того.
— Да господи! Обычный академизм совкового разлива. Социалистический, пардон, реализм. Послеполуденный отдых комбайнеров, праздник первого надоя, мартены гудят и прочее в том же духе. Запасники провинциальных музеев набиты этим мусором по самые люстры, и отдают его за бесценок… Так вы едете?
— Еду, — сказал я. — Только мне совсем рядом.
Мы выбрались из галереи, обогнули изжеванный колесами трейлера газон, и, как только погрузились в зеленый «ниссан» Кокорина, я спросил:
— Скажите, Павел Матвеевич, вам удалось вернуть Галчинскому те деньги, которые вместе с запиской находились в тайнике?
Он как раз выруливал задним ходом со стоянки, и в зеркале заднего обзора я увидел, что глаза у него округлились. Как если бы позади возникло неожиданное препятствие. Закончив разворот, Кокорин вдруг заглушил двигатель, надул полные щеки и с шумом выпустил воздух. Я ждал, что сейчас он резонно поинтересуется, какое мне до этого дело, но Павел Матвеевич проговорил, слегка запнувшись на первом слове:
— Д-да… И скажу я вам — странное у меня при этом было ощущение.
— Почему?
— Трудно объяснить… С Константином Романовичем мы близки с незапамятных времен, он меня еще грудным знал. Опять же у нас деловые отношения. Он, можно сказать, научил меня всему в этом бизнесе, хотя сам — парадокс, конечно, — никогда не оставлял научной работы ради предпринимательства. Знаете, как это бывает — от умного дилетанта часто больше толку, чем от кучи лопающихся от спеси специалистов… Да что там!.. Одним словом, денег поначалу он у меня не взял.
— Как это — не взял?
— Отказался наотрез. Заявил, что ничего не знает о долге и никаких финансовых отношений с отцом у них нет и никогда не было. При этом мне показалось, что Константин Романович неприятно поражен и злится, а потом он вдруг сник, схватился за сердце, за больную руку и полез за таблетками. Я продолжал настаивать, ссылаясь на записку, в которой совершенно недвусмысленно выражена воля отца. И вдруг он сдался! Представляете себе эту сцену?
— Более-менее, — буркнул я. — И как же он объяснил свою забывчивость?
— Эстетически.
— То есть?
— Подтвердил, что действительно давал отцу деньги взаймы, а затем сослался на то, что, как человек пожилой и не совсем здоровый, испытывает весьма двойственные чувства, когда ему возвращают долг с того света. Именно так он и сказал — и добавил, что на его месте у меня тоже возникли бы неприятные ассоциации… Вот уж кого бы я ни за что не заподозрил в суеверии!
Тут сыпанул дождь, и Кокорин включил дворники, хотя мы по-прежнему стояли в двух шагах от выезда со стоянки с неработающим двигателем.
— Значит, деньги он все-таки взял?
— Взял.
— Несмотря на ассоциации?
— Смеетесь, Егор Николаевич? А вот мне в тот момент было не до смеха. Я, честно признаюсь, даже испугался. Выглядел дядя Костя так, будто только что с привидением в коридоре столкнулся…
Он замолчал и какое-то время сидел неподвижно, исподлобья глядя на спидометр, стрелка которого застыла на нуле. Мне почудилось, что на самом деле никуда он не спешит, а вся эта суета с галереей — для отвода глаз. Между прочим, он впервые назвал при мне Галчинского «дядей Костей», чего раньше не делал.
— Павел Матвеевич! — В салоне стало душно, и я нажал кнопку стеклоподъемника. Сырой ветер ворвался в машину. Дождь разошелся — по лужам прыгали грязные пузыри, тугие струи гуляли по крыше «ниссана», наполняя салон слитным гулом. — Я хотел бы уточнить одно обстоятельство. Вы действительно видели «Мельницы Киндердийка» в мастерской отца в день похорон?
Ему понадобилось несколько секунд, чтобы сосредоточиться. Наконец он произнес:
— Да… то есть… Что, собственно, вы имеете в виду?
— Картину. Она находилась в мастерской?
— Я… Мольберт, как обычно, был закрыт тканью. Куском старого темно-синего шелка — вы его наверняка видели… У меня не было никаких оснований сомневаться, что… Представляете мое состояние в тот день?
— Извините, — сказал я. — Но ваша сестра ее видела?
— Она вообще не входила в мастерскую… Погодите, вы, кажется, хотите сказать, что…
— Я ничего не утверждаю. Двадцать второго июля, когда вы с сестрой приехали наводить порядок, мольберт был пуст?
— Абсолютно. Доски на нем не было.
— А ткань? Она осталась на месте?
Кокорин замешкался, а затем через силу, словно ожидая подвоха, выдавил:
— Н-ну… где же ей еще быть? Не понимаю, при чем тут этот шелк, Егор Николаевич?
Растерянность на его лице сменилась выражением детской обиды.
— Хорошо, — сказал я. — Оставим его в покое. Скажите, Павел Матвеевич, откуда вам стало известно, что «Мельницы» у дантиста Меллера?
— От Галчинского.
Я даже не удивился.
— А когда вы обнаружили заключение о картине, составленное вашим отцом?
— В тот же день, то есть двадцать второго. Мы с Анной в поисках картины перевернули вверх дном всю мастерскую и наткнулись на него в ящике рабочего стола.
— Константину Романовичу было известно содержание этого документа?
— Естественно. Я познакомил его с заключением сразу — после того как мне пришлось сообщить ему об исчезновении «Мельниц».
— Откуда же у Галчинского информация о Меллере и о том, что он намерен добиваться разрешения на вывоз картины за пределы страны?
— Я думаю, от Зубанова. Это известный коллекционер и состоятельный предприниматель. Его интересы лежат, в основном, в области античной культуры — скорее археология, чем история искусства, но и современная живопись ему не чужда. Он был знаком с отцом и проявлял интерес к его оригинальным работам.
— Правда, что ваш отец отказывался продавать свои работы?
— Насколько я знаю — да. — Он как бы слегка удивился моей осведомленности. — Зубанов известен еще и тем, что ни одна сделка с предметами искусства в городе не ускользает от его внимания. У него свои источники, и они редко ошибаются. Именно он предположил, что приобретенная Меллером работа снабжена фальшивыми документами и на самом деле является собственностью Галчинского.
— Еще при первой нашей встрече вы сказали, что посылали кого-то к Меллеру для переговоров…
— Да-да, к нему ездил Валентин, он работает у меня. Вы его видели — тот молодой человек в очках и шарфе.
— …и он так и не смог убедиться, что картина, которая находится у Меллера, идентична картине, которая стояла на мольберте в мастерской Матвея Ильича. Верно?
— Все-таки я не понимаю, к чему вы клоните, Егор Николаевич!
— Взгляните-ка на это, — сказал я, протягивая ему бланк с цифрами, вписанными рукой Майи Михайловны Сквирской. — Думаю, вам будет любопытно.