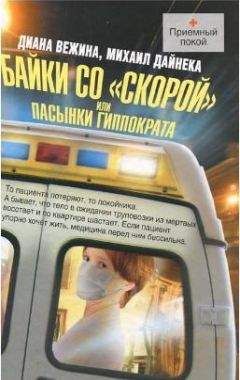побуждало очень многих (или —
слишком многих?) из таких людей искренне служить советской власти. Думали служить не власти, а стране? Так оно отчасти и случалось. Известно, эпохи перемен заморачивали головы и людям не вовсе сущеглупым: Пастернака вспомните. Да и вообще интеллигенция намного
компромисснее, скажем мягко так, чем порой хотелось бы… но, в конце концов, не в этом суть.
Родители Елизаветы Федоровны были петербуржцами, затем благополучно стали ленинградцами. Мать из рафинированной столичной гимназистки без особых внутренних потерь превратилась в убежденную марксистку-сталинистку. В юности она небездарно занималась живописью, писала обычные стихи, была знакома с Блоком и Ахматовой; стала же она одной из тех, кто отвечал за проведение партийной линии в новом, социалистическом искусстве. Кто станет отрицать, что тогда искусство всё же было, равно как и линия была.
Отец, будучи изрядно старше матери, узаконенным большевиком не стал, но власти был лоялен, правила игры охотно принимал и как умел использовал. Талантливый лингвист, специалист в области сравнительного языкознания, знаток немецкого, английского, французского, он споро дослужился до звания профессора Ленинградского университета. Времена, пардон, не выбирают: очевидно, ученый Нарчаков тоже не чурался к месту и ко времени цитировать «Марксизм и языкознание», сочинение товарища Сталина И.В., и громко осуждать «врагов народа». Во всяком случае, всех их, равно как и моих, репрессии тридцатых миновали. Бывало и такое — иногда.
(Времена не выбирают; в них не только умирают — в них еще и убивают. И рожают в них, само собой.)
Елизавета Федоровна родилась в 1925-м, ее сестренка Тюша (явно уменьшительное: Катюша, например, Настюша — тетя Лиза уточнить забыла, я же переспрашивать не видела нужды) появилась на два года позже. Других детей у Нарчаковых не было. Семья жила в достатке, девочки росли в просторной, типично «профессорской» квартире на Васильевском и в принципе ничем, помимо, разумеется, благосостояния и хорошего, в придачу к школьному, домашнего образования не отличались от множества своих советских сверстниц. Отличницы, спортсменки, комсомолки, красавицы — чего еще желать? Вся жизнь на блюдечке.
Потом была война. И приподнятое — вовсе не шучу! — настроение ее первых часов и даже дней, не сразу и не вдруг сменившееся осознанием того, что бьем не мы, а нас. И бьют нас в хвост и гриву, казалось — ниже пояса, по всем фронтам, совсем не как учили. И… впрочем, о хаосе, предательствах, о повальной панике начала той войны вспоминать у нас как-то так, не принято… ну и, стало быть, не будем вспоминать. Иногда довольно просто помнить.
В сорок первом тете Лизе исполнилось шестнадцать — еще или уже? Как рассудить. Школа вместе с детством остались позади, впереди — упомянутый уже историко-философский факультет Университета, где, не исключено, сложись бы жизнь иначе, она могла бы познакомиться со старшей из сестер Яновских — иначе говоря, с моею бабушкой. Мир мог быть тесен, если бы не но; увы, всегда всё но…
— Наверно, невозможно в молодости по-настоящему понять, что и старики когда-то были молодыми, да? — сказала тетя Лиза.
Я неопределенно качнула головой: наверное. А впрочем, нет: умом понять несложно, а по-настоящему — зачем? Когда состаримся, тогда уразумеем, а раньше — как-то грустно; разве нет? Естественно, озвучивать я эту мысль не стала — да и не нуждалась тетя Лиза в моих репликах.
Старушка продолжала:
— Бессмысленно жалеть, что в жизни что-то не сложилось, — она чуть улыбнулась, — а жалко — иногда. Память — штука странная… Тебе небось частенько пожилые пациенты говорят, что раньше всё на свете лучше было. На самом деле, разумеется, это ерунда: все времена по-своему плохи, равно как и хороши — по-своему. Просто с возрастом… с возрастом не столько плохое забывается, сколько вспоминается хорошее. А хорошее — оно обычно там, где остались детство, юность, молодость, — тетя Лиза усмехнулась краем губ: — Тогда всё лучше было.
Я тоже улыбнулась.
— А память… память нас порой настолько же подводит, насколько и щадит, — сказала тетя Лиза. — В забвении есть много милосердия. Не находишь, Яночка? Знаешь, я уже почти не вспоминаю ужасов войны — знаю, было, да, но нутром уже не вспоминаю. А вот мелочи — они, как ни странно, помнятся… и странно помнятся, — добавила она. — Услышу запах хвои — горчит во рту: в блокаду из нее отвар готовили — считалось, помогает от цинги. Мне, кстати, не помог… Или, например, трафарет на Невском сохранился: «При обстреле эта сторона улицы опасна». Теперь он голубой, а был тогда — коричневый, грязный цвет такой, до войны полы этой краской красили. Как сейчас увидела…
Тут мысль ее не в первый раз скакнула:
— Жить тебе в эпоху перемен — занятное проклятие, как ты думаешь? Хотя бы потому, что жизнь сама — эпоха перемен. Правда, вековечные вопросы остаются теми же… — Она вновь улыбнулась краем губ: — Достоевский много не додумал: на самом деле просто отказаться от Царствия Небесного из-за слезы младенца — хоть там, хоть на земле. А вот когда, не будь этой слезы, всех остальных — ну, пусть не всех, пускай лишь очень многих — здесь ожидает ад? Как разрешить? Неважно, впрочем… Ад всегда предпочитал благонамеренных. Хотя я не о том… Я тебя не слишком утомила своими… — она подобрала определение: — своими старушизмами?
Я вежливо мотнула головой.
— Конечно, ты у меня девочка очень деликатная, — сказала тетя Лиза. — С кем же мне еще за жизнь поговорить? Считай, что напоследок… Знаешь, старики частенько ругают чужие времена — и ругают просто потому, что времена — именно чужие. На самом деле, каждому свое, почти как на воротах фашистского концлагеря. Каждый должен оставаться в своем времени, не пытаться оседлать чужое: в лучшем случае окажешься смешной, а то ведь, не дай бог, беды наделаешь. А жизнь… жизнь, Яна, остается при своем, как ты ее не мучай. И со временем она не лучше или хуже — просто жизнь становится другой. Не верь, не бойся, не проси — теперь приметы времени, не правда ли? Заметь, история опять играет парадоксами: демократы за десять лет реформ надежнее привили обществу лагерную мораль, нежели большевики за семьдесят. Их свобода — каждый за себя; потому теперь и Бога воскресили, потому что каждый за себя, а за всех быть некому… Я не права?
Всё может быть. Мне как-то мимо кассы.
— Наверно, тетя Лиза, — отозвалась я. — Давайте-ка мы вам давление перемерим, — перехватила я инициативу. — Вот так… — Давление медленно, но верно опускалось к верхним границам нормы. — Совсем неплохо. Клофелин уже помаленьку действует, скоро