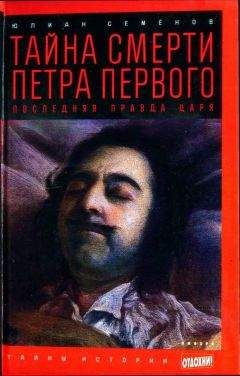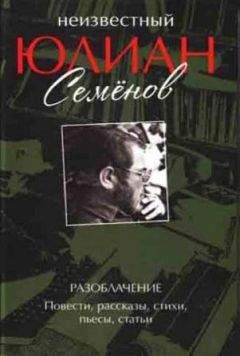— Второе, — ответил Степанов. — И довольно много.
— Сейчас же бери такси и приезжай ко мне, если нет сил прогуляться.
— Женя, утром, — взмолился Степанов. — Устал, ноги трясутся.
— А у меня руки. Жду. — И положил трубку.
Степанов хотел было перезвонить, но понял, что случилось нечто крайне важное, иначе князь не говорил бы так; сунул голову под кран, долго растирал остатки волос, снял костюм, надел походные джинсы и куртку, спустился вниз, сел в такси, назвал «Кларидж»; шофер посмотрел с удивлением, но ничего не сказал; вез всего пять минут, совсем рядом; англичане редко задают вопросы, это похоже на нарушение суверенитета, каждый волен поступать так, как считает нужным.
Портье в своих цилиндрах поздоровались со Степановым с таким же сдержанным достоинством, как и вчера, когда он был в костюме; их дело приветствовать каждого, кто идет в дом; внутри есть своя, особая служба, которая быстро во всем разберется; самое страшное — отпугнуть клиента; сейчас и Рокфеллер ходит в поношенных кроссовках, вот будет шокинг, если его турнуть от дверей!
...Ростопчин лежал на кровати в трусах; ноги отекли; руки снова сделались ледяными; глаза его, однако, сияли, — картина Врубеля стояла на стуле; он кивнул Степанову:
— Видишь?
Степанов опустился на кровать словно подрубленный:
— Ешь твою... Женя! Милый! Как?!
(Фол еще раз намазал лоб и виски китайским «тигриным бальзамом»; сделал уровень записи разговора в соседнем номере максимально громким; каждый звук отдавался в маленьких наушниках словно удар колокола.)
...А потом Золле лег на широкую кровать, подтолкнул под голову подушку Анны, она всегда спала на этой, длинной, шутя называла ее «батоном», закрыл глаза и снова ощутил дурноту. Она преследовала его все то время, что он возвращался в Бремен на теплоходе; денег хватило только на палубный билет; крепко штормило; один из моряков посоветовал плотно перекусить, это спасает; «и не бойтесь выпить как следует, проблюетесь — сразу станет легче».
Золле пошел в туалет, посчитал деньги; едва хватало на автобус, чтобы добраться от порта до дома; какое там перекусить и выпить; сидел всю дорогу возле поручней; дважды вывернуло желчью, тряслась челюсть; думать ни о чем не мог; какая-то каша в голове; мелькали странные лица — то Рив с Райхенбау, проклятые родственнички, скалятся, прячась друг за друга, то снисходительно улыбающийся князь в своем роскошном шелковом костюме, то растерянный Степанов, — желваки ходят грецкими орехами, набрякли мешки под глазами; то слышался голос господина из «исторического общества», который звонил накануне отъезда в Лондон: «Пятнадцать тысяч марок мы готовы уплатить сразу же, напрасно отказываетесь, господин Золле, все права на изыскания сохраняются за вами»; иногда он близко видел лицо Анны, ее добрые большие глаза; они стали какими-то совершенно особыми накануне смерти; она знала, что конец близок, рак печени; в клинику лечь отказалась, к чему лишние траты, и так все в долгу; пила наркотики, боли поэтому так остро не чувствовала, только ощущала, как день ото дня слабеет; лицо сделалось желтым, а уши, раньше такие маленькие, красивые, стали похожи на старые капустные листья.
Я не вправе распускаться, повторял Золле; надо заставить себя услышать музыку Вагнера, она живет в каждом, необходимо лишь понудить себя к тому, чтобы не сдерживать ее в себе, не бояться ее грозной, очищающей значимости, наоборот, идти за нею, чувствуя, как напрягаются мышцы и тело перестает быть дряблым и безвольным; однако же Вагнер не звучал в нем, порою он слышат веселые переливы Моцарта, солнечные, детские; каждый человек — это детство, ничего в нем не остается, кроме детства, все остальное от жизни, а как же она безобразна, боже мой!
На берег в Бремене Золле вышел совершенно обессиленным: присел на скамейку, чувствуя, как подступает голодная дурнота; вот будет стыд, если меня вырвет прямо здесь; до туалета я просто не смогу добежать: упаду.
Рядом с ним присел отдувающийся, очень толстый, плохо бритый человек в далеко не свежей рубашке и курточке, закапанной на животе вином и соусами; достал сигарету, грубо размял ее, прикурил и вытерев со лба пот, спросил:
— Вы господин профессор доктор Золле? Исследователь и историк.
— С кем имею честь? — спросил Золле сквозь зубы, потому что по-прежнему боролся с приступом рвоты.
— Я — Бройгам, из «Нахрихтен». Редакция поручила мне сделать с вами интервью. В сегодняшний вечерний номер.
— Не могу, — ответил Золле. — Я себя очень плохо чувствую. Позвоните мне домой... Попозже...
— Вы что такой землистый? Плохо переносите морские путешествия? Не следовало сидеть в каюте. Вышли бы на палубу...
— Я все время сидел на палубе.
— Надо было напиться. И съесть супа. Две порции. Вас бы вывернуло, и дело с концом.
Золле поднес мятый платок к губам, закрыл глаза, чувствуя, как на висках выступает холодная, предсмертная испарина.
Бройгам достал из заднего кармана брюк плоскую бутылочку, протянул Золле:
— Виски. Глотните.
— Я голоден, — ответил Золле, чувствуя, как слезы сами по себе навернулись на глаза и медленно, солоно потекли по щекам.
Бройгам взял его под руку, помог подняться, отвел к буфетной стойке, заказан гамбургер и пива:
— Не вздумайте отказываться. Вам сразу же станет легче.
— Меня стошнит.
— Ну и что? Дам пару марок буфетчику, он после этого предложит вам сблевать еще раз. Были бы деньги, — блюйте на здоровье, где вздумается.
Золле съел гамбургер и действительно почувствовал себя лучше.
— Но пиво я пить поостерегусь, — сказал он. — Благодарю вас.
— Обязательно выпейте.
— Не могу.
— Протолкните первый глоток. Я человек пьющий, знаю, как трудно в з я т ь первый глоток. Особенно наутро после гульбы... Все внутри трясется, пропади ты пропадом, эти виски, никогда больше не пригублю, только б прошел ужас похмелья... Русские правильно говорят: «От чего заболел, тем и лечись». А протолкнешь первый глоточек и сразу мир видишь, как на экране цветного телевизора, и вечером не страшно снова начинать пьянку.
Золле вздохнул:
— Но я заболел не от виски, а от моря...
— От моря? Могу принести глоток, — усмехнулся Бройгам. — С грязью и нефтью... Так вывернет, что на ноги потом не встанете. Пейте, пейте. Я плавай на флоте, знаю, что говорю.
Этот толстый человек успокаивающе действовал на Золле; вообще-то к встрече с любым журналистом он готовился загодя, перечитывал альманах латинских выражений, листал древних, особенно Тацита; когда говоришь с людьми из прессы, очень важно быть лапидарным в слове; они ведь такие резкие, так старательно подгоняют тебя под конструкцию, заранее ими придуманную; внимание и еще раз внимание; но этот толстяк был как-то по-доброму флегматичен, достатком тоже, видно, не отличается, весь жеваный...
Золле со страхом отхлебнул глоток пива; оно обвалилось в него шумно, словно камень, брошенный в колодец; допил бокал до конца, почувствовал облегчение, поднялся:
— Ну что ж... Идем на автобус, не здесь же говорить...
— У меня машина, — ответил Бройгам. — Далеко живете?
— Не очень. Я покажу на карте, трудно объяснить, маленький тупичок за озером.
Однако когда Бройгам привел его на стоянку, Золле снова почувствовал себя маленьким и несчастным, и снова закружилась голова; журналист отпер дверь громадного серебристого «БМВ», в таких ездят тузы, а он-то думал, у того какая-нибудь французская «портянка» или подержанный «фольксваген»; снова г р а н и ц а; как же трагично расчерчен этот мир границами, — не только между государствами, но и между людьми, это страшнее; каждый идущий по улице, а уж тем более едущий по автобану, — суверенное государство; полная разобщенность; все хитрят друг с другом, закрываются; эра неискренности и коварства...
Дома он нашел пачку бразильского «Пеле», единственное, что у него оставалось; холодильник пуст; предложил Бройгаму чашку кофе; тот ответил, что, кроме виски, ничего не употребляет, перешел к делу; сначала интересовался работой, просил показать документацию, потом спросил о целях путешествия в Лондон; делал быстрые пометки в потрепанном блокноте, из которого то и дело выпадали исписанные листочки; ни диктофона, ни фотоаппарата; впрочем, серьезные журналисты сами не снимают, возят с собою фотографа, Золле помнил, как ему объяснил про это тот парень, что интервьюировал его незадолго до смерти Анны; написал массу ерунды; увы, опровержение газета не напечатала, какое им дело до фактов, подавай жареное!
— Во что вы оцениваете ваш архив? — спросил Бройгам.
— В жизнь, — ответил Золле. — Я отдал этому делу всего себя. Я отказывал... Мы отказывали себе во всем, моя покойная подруга и я... Я... Мы делали то, что нам было завещано богом, потому что только он один знает правду...
Бройгам достал из мятой пачки (она ужасно рассердила Золле, привычка к аккуратности в работе с документами стала его второй натурой; любую разболтанность, неряшливость, необязательность воспринимал как оскорбление) раскрошившуюся сигарету, сделал ее плоской, закурил, пыхнул в лицо Золле каким-то сладким дымом, тяжело закашлялся, долго сидел закрыв глаза, пояснил — астма; не переставая тем не менее курить, спросил: