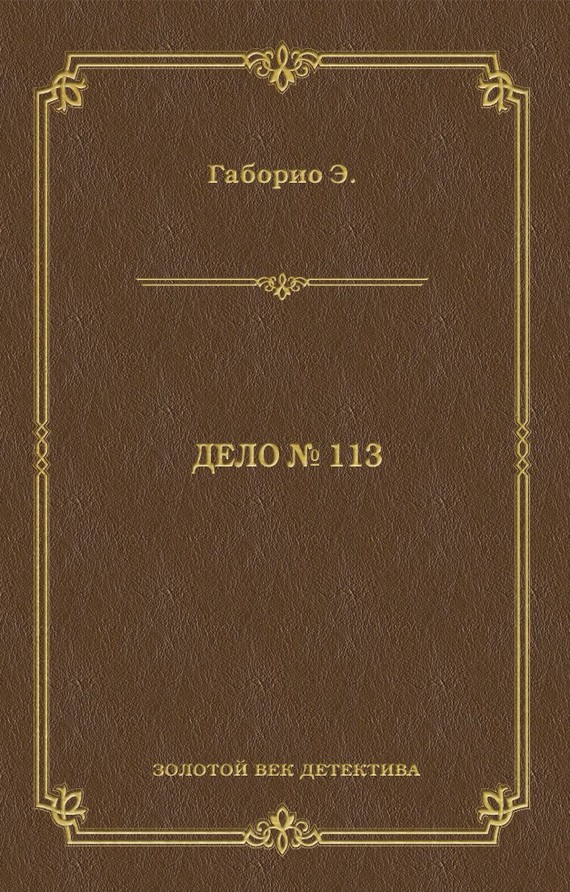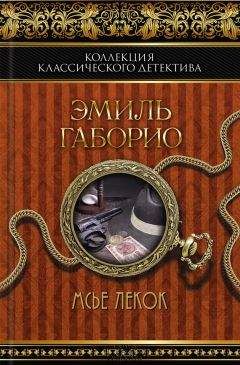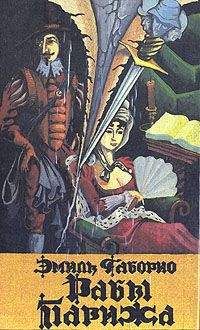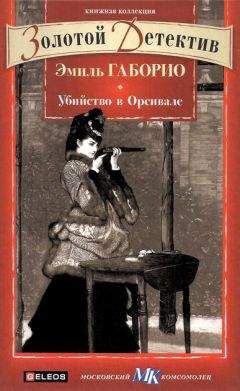в записки и в объемистую записную книжку.
Проспер слушал его, пораженный необычайной ясностью и удивительным правдоподобием предположений.
Долгое время продолжался рассказ Вердюре. Было уже четыре часа утра, когда он его окончил и когда Вердюре с триумфом воскликнул:
– А теперь они у нас в руках! Они хитры, но я еще хитрее их и заткну их за пояс. Через каких-нибудь восемь дней, милый Проспер, вы будете уже реабилитированы: я обещал это вашему отцу.
– Что, если бы это было возможно! – проговорил кассир. – Если бы только это было возможно!
– Что?
– То, что вы говорите.
Вердюре вскочил, как человек, который не привык к тому, чтобы ему не доверяли.
– Это вполне возможно! – воскликнул он. – Это сама истина, это сама очевидность, опирающаяся на факты и бьющая в глаза!
– Но мне хотелось бы знать, как вы открыли всю эту подлую историю?
Вердюре громко засмеялся.
– Конечно, трудно было разобраться во всем этом темном деле, – отвечал он, – необходима была хоть искра света. Но пламя, зажегшееся в глазах Кламерана, когда я произнес имя его брата Гастона, зажгло и мою лампу. С этого момента я прямо пошел к разрешению этой загадки как к маяку.
Проспер смотрел на него вопросительно и умоляюще: ему хотелось знать частности, так как он все еще сомневался и не смел верить в счастье, которое тот ему пообещал, именно полную реабилитацию.
– Я расскажу вам сейчас свою систему, – продолжал Вердюре. – Вы уже знаете, благодаря каким именно поводам я пришел к заключению, что у Кламерана рыльце в пуху. С этого же момента, благодаря кое-каким сведениям, работа уже значительно упрощалась. Что же я сделал? Первым делом я поместил своих подручных к тем лицам, в которых имел интерес, а именно: Жозефа Дюбуа – к Кламерану, а Нину Жипси – к дамам Фовель.
– Я положительно не могу понять, как это Нина могла согласиться на такое предложение.
– Ну, это мой секрет! – отвечал Вердюре. – Итак, я продолжаю. Имея в своем распоряжении отличные глаза и чуткие уши на месте, уверенный в настоящем, я должен был узнать прошлое и потому отправился в Бокер. На другой день я уже был в Кламеране и сразу же отправился к сыну старого лакея Сен-Жана. Это славный малый, простой, как сама природа. Я стал покупать у него свеклу…
– Свеклу?… – спросил сбитый с толку Проспер.
– Да, свеклу. У него имелась продажная, и мы стали торговаться. Торг продолжался целый день, и мы усидели с ним дюжину бутылок. К вечеру сын Сен-Жана был пьян в стельку, и я таки купил у него на девятьсот франков свеклы, которую перепродал потом вашему отцу.
Проспер дико смотрел на него, так что Вердюре засмеялся.
– Я рискнул девятьюстами франками, – продолжал он, – но зато узнал всю историю Кламеранов, роман Гастона, его бегство за границу. Я узнал также, что только год тому назад Луи был на родине, что он продал замок некоему Фужеру и что жена этого Фужеру, Мигонна, назначала свидание Луи. В тот же вечер я переправился через Рону и побывал у этой Мигонны. Я сказал ей, что пришел от Кламерана, и она выложила передо мною все, что знала. С этих пор у меня в руках уже был главный конец нити. Оставалось только узнать, что сталось с Гастоном, и тридцать шесть часов спустя я был уже в Олороне. Здесь я повидался с Мануэлем и узнал от него всю биографию Гастона и малейшие детали его смерти. От него же я узнал и о том, что к ним приезжал Луи. А пока я там путешествовал, мои помощники не сидели сложа руки. Ненавидя друг друга, Рауль и Кламеран все-таки довольно хитро скрывали свои письма. А Жозеф Дюбуа все-таки находил их, с большей части из них снимал копии, а некоторые сфотографировал и доставил все это мне. С своей стороны, Нина подслушивала у дверей и представляла мне полный отчет о том, что ей довелось слышать… Наконец, кое-что есть и другое, о чем я вам сообщу только впоследствии.
Это было ясно, неоспоримо.
– Понимаю, – говорил Проспер, – понимаю.
– А что вы тут поделывали без меня, дорогой приятель? – спросил Вердюре.
При этом вопросе Проспер смутился и покраснел. Но он понимал, что скрывать о своем поступке было бы нечестно и неумно.
– Увы, – ответил он, – я прочитал в газете, что скоро будет свадьба Кламерана с Мадленой.
– А потом? – спросил с беспокойством Вердюре.
– Я написал Фовелю анонимное письмо, в котором обращал его внимание на его жену и на ее отношения с Раулем.
Вердюре со злобою стукнул кулаком о стол.
– Несчастный! – закричал он. – Да ведь вы этим, быть может, погубили все!
Его физиономия изменилась, радостное лицо вдруг стало грозным.
– Вас не было, – залепетал Проспер, – это известие о свадьбе встревожило меня. Вы были где-то очень далеко, быть может, были очень заняты…
– Написать анонимное письмо! – волновался Вердюре. – Да знаете ли вы, что этим наделали? Вы будете причиной того, что, быть может, я не сдержу слова, данного мною одной из редких женщин, которую я глубоко уважаю. И я окажусь обманщиком, я, который…
И он вдруг встрепенулся, точно поняв, что сказал больше, чем следовало.
– Где и когда вы опустили это письмо? – спросил он уже спокойно.
– Вчера вечером, на улице Кардинала Лемуана.
– В котором часу?
– Около десяти.
– Значит, сегодня утром оно уже попало в руки к Фовелю. Теперь он его уже читает. Вы можете вспомнить то, о чем вы ему писали?
– Буквально все.
И он в точности восстановил свое письмо к Фовелю. Вердюре выслушал его с большим вниманием, и морщины на его лбу стали разглаживаться.
– А ну-ка прочтите еще раз! – сказал он.
Проспер повиновался.
Когда чтение было окончено, Вердюре выпрямился и стал перед Проспером, скрестив руки на груди.
– Эффект вашего письма, вероятно, был ужасен, – сказал он. – Ваш патрон вспыльчив?
– Воплощенная горячность, – отвечал Проспер.
– Тогда еще не все, значит, пропало.
– Как так?
– Все вспыльчивые натуры никогда не подчиняются первому впечатлению. В этом наше спасение. Если бы, получив ваше письмо, господин Фовель подчинился первой вспышке, то он моментально бросился бы к жене и закричал: «Где твои бриллианты?» – и тогда прощай наши планы. Я ведь знаю госпожу Фовель. Она сознается во всем.
– А это было бы большим несчастьем?
– Да, мой друг, потому что первое слово, произнесенное в повышенном тоне Фовелем и его женой, рассеет все наши надежды.
Проспер не предвидел этого.
– Кроме того, – продолжал Вердюре, – это причинило бы одной особе невыносимое горе.
– Я ее