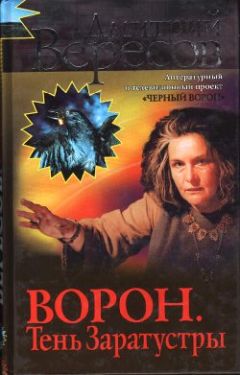В той самой Португалии – на пляже где-то между Капо Дель Рока и Кашкайшем, из взятого Ванькиным приятелем напрокат автомобиля – соотечественники Алискиного Хосе-Жу-Жу по их национальному обычаю – украли Ванькины вещи. Смешно вспоминать! Среди прочего был и сборник рассказов Довлатова. На русском-то языке! Зачем им?
Ванька его творчеством никогда особенно не восторгался, но на днях услышал по «Радио Свобода» передачу, где рассказывали о зарубежном этапе литературной деятельности покойного писателя, ну, и читали при этом некоторые письма, где в частности Довлатов писал своему другу издателю: «Посылаю новую вещь – вроде эссе. Тут все негодяи выведены под собственными именами».
Ваньке тоже хотелось… Руки так и чесались, ну так и чесались…
Он так и не состыковался с нею во времени.
Разница в возрасте – это не просто разница в возрасте.
Это пропасть между несовместимыми культурами.
Алиска – бесстыдница. Теперь время такое, и все они, дети перестройки, напрочь лишены того, что в недавнее время в женщинах еще так явственно проявлялось… Еще с детства Ваньке врезалось из где-то прочитанного: «Если женщина не стесняется перед тобой своей наготы, значит, она тебя не любит…» Интересно, в некоторых женщинах он это прослеживал очень явственно.
Но теперь… но нынче не знаешь, что и думать. Говорит «люблю» – и ходит по квартире, в чем мать родила… Туда-сюда ходит – и говорит «люблю».
А Алиска не признавала на окнах занавесок. Ванька ей говорил: «Там же все мужики из соседнего дома к биноклям приникли»… А она только смеялась и с зажженным светом ходила по квартире туда-сюда.
Но ночью… Он оценил. Он по достоинству оценил это окно без штор. С его луною в полнеба. С темно-серыми облаками, несущимися вдаль, как наши грехи несутся в ад, унося последние частицы нашего живого бессмертия.
У нее в постели он помнил не столько саму – мягкую, послушную и желанную – Алиску, сколько ее окно…
Он неделями не включал телевизор. Да и зачем? Любоваться опухшей физиономией Всенародно Избранного с его утробным «ну-у, понима-ашь…»? Услаждать слух бездарной до цинизма попсой, официально именуемой «современной российской эстрадой»? По сотому разу смотреть остохреневшее «Золото наших цепей»?
Черный «Панасоник» – Алискино наследство – без дела пылился в углу, «ленивка» давно уже куда-то запропастилась.
Но в тот день словно неизвестная муха его укусила. Неосознанно, будто делал это по нескольку раз на дню, он подошел к телевизору и нажал на кнопку.
На подернутом пылью экране проступило изображение Тани Лариной – его бывшей, но до сей поры единственной жены. Держа в руках статуэтку золотого «Оскара», она что-то взволнованно говорила в микрофон. Ее слов не было слышно: кадр был смонтирован так, что под немую картинку шла звуковая дорожка с инструментальной версией «Прощальной песни» из ее первого фильма, фоном к характерному тенорку известного телеведущего:
– …помним под именем Татьяны Лариной, талантливой молодой актрисы, подарившей нашему, советскому тогда еще, зрителю плеяду незабываемых образов. Это и графиня Ольга – героическая красная разведчица, и блистательная Каролина Собаньска, мучительная любовь Пушкина, и Александра Гончарова – Фризенгоф. Поэтому сегодняшний голливудский триумф Тани Розен – это отчасти и наш триумф, победа всего российского кинематографа…
На экране Таня Розен подняла «Оскара» над головой. На освещенном прожекторами лице блеснула слезинка…
Три дня Иван пил по-черному. На четвертый, проведя несколько часов в обнимку с унитазом, кое-как добрался до компьютера, включил, вошел в текстовой редактор и, закусив бледную губу, не попадая дрожащими пальцами в клавиатуру, принялся торопливо набирать:
«Окно выходило на запад, но внезапный утренний свет, упав на лицо женщины, разбудил ее. Настырно кричали чайки.
– Заче-ем? – сонно жмурясь, протянула она.
Мужчина отошел от окна, склонился над нею и поцеловал в глаза, щекоча ей лицо светлой бородой.
– Прости, зайчонок, но уже пора. У нас много дел. Сама знаешь.
– Знаю. – Она вздохнула и потянулась. – Жалко. Я такой сон видела…
– Хороший? – с некоторой тревогой спросил он.
– Хороший. Я не помню, про что. Только самый конец: будто я летаю под высоченными расписными сводами какого-то дворца, и музыка играет, такая божественно чудесная, а внизу танцуют люди в старинных костюмах. Маленькие, красивые, как куколки… Глупо, правда?»
Ивана трясло, крупные капли пота градом выступили на лице, падали на клавиатуру. Тяжкое похмелье – время предельного истончения грани между жизнью и смертью – гнало его вперед, сквозь фразы и абзацы, заставляя спешить, спешить…
Примерно на третьей странице что-то теплое запульсировало в области солнечного сплетения и, постепенно разрастаясь, заполнило его… Расслабляя, разжимая…
Иван сунул в рот беломорину, затянулся – и продолжил стучать по клавишам.
Он понял, зачем живет на этой земле.
Конец
2003–2004, Санкт-Петербург