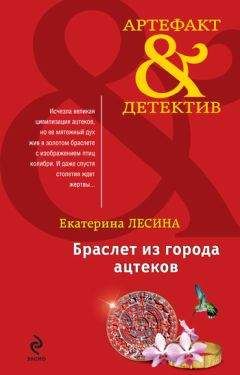А вот это уже было правильно.
Переславин позволил забрать пистолет и поехал, куда сказали. Вызвал только адвоката, и никто не стал оспаривать это его конституционное право. На право было насрать.
Почему-то казалось, что стоит убить ублюдка, и все вернется на круги своя. Или хотя бы полегчает.
Стало только гаже.
Девчонка та рыженькая из головы не шла, которая кричала и вырывалась, а мент ее не пускал, успокаивал и уговаривал, глядя поверх головы. И выражение лица у него виноватым было.
Ублюдок заслуживал смерти!
Но знание не приносило облегчения. В участке Переславин отвечал на вопросы, пробиваясь через реплики суетливого и бестолкового адвоката, и в конце концов Эдгара отпустили.
Пистолет забрали. Ну и черт с ним, с пистолетом.
Выбравшись наружу, Переславин зачерпнул горсть сырого снега, смял в руке и выбросил грязный катышек: от него пахло не зимней свежестью, а грязью.
Подумалось: весна скоро.
– Эдгар Иванович, – адвокат зябко кутался в пальто и шмыгал носом, – вы, главное, придерживайтесь заявленной версии. Все будет в порядке.
Не будет. Сегодня Переславин убил человека.
– Закурить есть?
Адвокат протянул всю пачку и предложил:
– Давайте я вас подвезу.
Переславин посмотрел на часы. Почти полдень. Куда ему ехать? Дома пустота. Тоска загрызет. На работе… и там загрызет.
– А подвезите, – он назвал адрес и, пока ехали, курил, прямо в салоне, не обращая внимания на нервную адвокатскую физию. Ничего, потерпит.
Вылез у подъезда, задрал голову, вычисляя нужное окно. Поднимался, перепрыгивая через ступеньку, и в дверь не звонил – стучал. Фанера гудела под кулаком.
– Тебя отпустили? – спросила Анна, открыв дверь.
– Не рада?
А если и так? Если она не захочет с уродом и убийцей связываться? И вообще с ним, с Переславиным, который нагл и невоспитан?
– Я боялась, что тебя посадят, – она отстранилась, пропуская в тесный коридор. – Кофе будешь? Или чай?
– Все буду.
Тоска, щелкнув зубами, улеглась за порогом. Ее пугал тонкий цветочный аромат, исходивший от Анны. И Переславин, наклонившись, втянул этот запах, мечтая весь, от макушки до пяток, им пропитаться.
– Ань, я человека убил, – он стянул пальто и кинул в угол.
Она подняла и повесила на крючок.
– Я знаю, что он заслужил. Он маньяк. Он дочку мою… псих. Убийца. А тут вот, – Переславин прижал ладошку Анны к груди. – Вот тут гадко. Почему так?
– Потому что ты не маньяк и не псих, – серьезно ответила она. – Пойдем. Тебе отдохнуть надо.
– Ты от меня не сбежишь? Я не позволю. То, что этот придурок тогда наговорил… Ань, это глупости все. Я ж не ребенок на такие разводки. Мне просто плохо было. И сейчас тоже. Не уходи?
– Не уйду.
Тоска заскулила за дверью. Люди не открыли.
Лиске вкололи что-то, от чего Лиска перестала плакать, только икала громко и глупо. А Вась-Вася, передав ее в холодные руки бывшей подруги, исчез. У подруги подергивалась щека и волосы дыбом стояли, а на шее наливались черничные пятна синяков.
Красиво. На ожерелье похоже.
Лиска тоже ожерелье сделает. Соберет много-много бусинок и нанижет на леску. Будет носить…
– Ты давай приляг, – в пятый раз повторила Дашка, пытаясь положить Лиску. И Лиска легла, но тут же встала. Когда лежишь – икается плохо.
– Он умер!
– Умер, – Дашка устала укладывать и сама села, на пол. Ноги скрестила по-турецки и шею ладонью обхватила, скрывая синяки.
– Он же отпустил меня! И нож бросил. А они выстрелили. Зачем?
– Затем.
Это неправильно! Убивать, если сдался. Лиска ведь обещала, что его не тронут…
– Так лучше для всех, – тихо сказала Дашка.
Для кого? Для них? Для Вась-Васи? Для этого громилы, который шел убивать и убил. Или для равнодушного типа, спокойно наблюдавшего за всеми.
– Его бы судили. И тогда либо признали бы вменяемым и заперли пожизненно…
Дашка говорит медленно, точно опасается, что до Лиски быстрая речь плохо доходит.
– …и остаток дней он провел бы в клетке. Либо признали бы невменяемым. А это еще хуже. Его заперли бы не в такой лощеной больнице, в которую он отца поместил. В государственном учреждении для особо опасных психов. И лечили бы. Сейчас хорошие лекарства выпускают. Пара лет – и нет человека. Есть оболочка, которая способна разве что шнурки завязывать и ложку в руке держать.
Почему она настолько жестока? Лиска знала ответ: потому что хочет, чтобы Лиске стало легче.
– А смерть – это точка.
Точка-точка-запятая. За Лискиной спиной две смерти. И Вась-Вася. Он приедет. Лиска спросила, опасаясь, что этой запятой тоже предстоит переродиться в точку. Но Дашка, помассировав шею, сказала:
– Приедет-приедет. Куда он денется. Он же любит тебя, по-настоящему. Ты только не убегай, ладно? Он хороший. И сало вкусно засаливает.
Лиска знает. Она сама его научила, выдала мамин рецепт, и эта общая тайна стала первой связующей нитью между ней и Вась-Васей. Нить была протянута давно, но, если Лиске повезет, за годы не истончится.
Все ведь можно восстановить.
Или хотя бы попытаться.
– Ложись. Закрывай глаза. Все будет хорошо, – пообещала Дашка. – У вас – точно.
Ей было жаль эту рыжую встрепанную девчушку, которая потерялась между «хорошо» и «плохо». Ей, наверное, стократ сложнее, чем Дашке. Ей жизнь с нуля начинать.
Так пусть получится хотя бы у кого-то.
Дашка дождалась, когда девчонка, осоловевшая от успокоительного, заснет, и только тогда встала. Предстоял разговор, и неприятный. Дашка отложила бы его, но понимала, что, сколько ни откладывай, легче не станет. Так чего тянуть?
Адам уже успел привести себя в порядок и выглядел даже чересчур нормально для человека, которого собирались убить.
– Ты мне солгал, – Дашка подошла близко. И плевать ей, что этот псих не любит, когда нарушают его долбаную зону комфорта. – Ты видел его на кладбище! Ты сговорился с ним! Я не знаю как! И никто не узнает, но ты с ним сговорился!
– Да.
Кратко. Точно. Бессмысленно. Ну почему он даже не пытается отрицать?
– Зачем, Адам? – Дашка отступила и остановилась, упершись спиной в стол. – Ты понимаешь, что это… это натуральный суицид. Снова, Адам. Ты же обещал.
Вот что ей теперь делать? Забыть? Сделать вид, что все – случай случайный и на самом деле ничего страшного не произошло? А если он снова? Адам найдет способ, фантазия у него богатая.
– Адам, скажи, ты понимаешь, что я должна сделать?
– Поставить в известность лечащего врача.
– Именно.
Того придурка, который залез в эту гениальную голову и переворошил там все. И как знать, не от его ли лечения Адаму так плохо?
– Ты испытываешь угрызения совести? – Адам подошел и встал рядом. Он повторил Дашкину позу, упершись ладонями в край стола и вытянув ноги. – Но данный вариант единственно возможен при нынешней ситуации. Я предпочел бы смерть. Но я сомневаюсь, что самостоятельно сумею убить себя. Следовательно, я должен или найти кого-то, или отказаться от данной мысли.
До омерзения логичен. Почти как раньше.
Ну почему он не совсем как раньше?
– Постороннее вмешательство в данном случае необходимо, – подытожил Адам. – Сегодня я испытал желание убить человека. Я решил, что он причинил тебе вред. Я с трудом удержался. И я опасаюсь, что подобные вспышки повторятся. Мне будет легче, если я буду знать, что нахожусь под контролем до тех пор, пока сам не научусь контролировать подобные эмоции.
– Это просто-напросто злость.
– Для тебя. Для меня это – проблема.
И выражение лица сосредоточенное. Правильно, Адам решает очередную головоломку, на сей раз – собственной жизни.
– Я… – Дашка решилась. – Я найду тебе другого врача. Ладно?
Это место мало походило на лечебницу. Оно было ярким, словно нарисованным детской акварелью. Лужайки. Клумбы. Скамеечки. Беседки.
Деловитые медсестры и длинная докторша с волосами, завязанными в высокий хвост. Докторша при разговоре мотала головой, и хвост тоже мотался, шлепая по щекам.
– Адам? Приятно познакомиться, – она не стала протягивать руку, но указала на кресло, стоящее в углу кабинета. – Присаживайтесь. А вы – Дарья? Тоже присаживайтесь…
Она говорила и говорила, речь журчала ручьем по камешкам, и Дашку постепенно отпускало.
Это же не тюрьма, а больница. Хорошая. Дорогая. И врач тоже хороший и тоже дорогой, но главное – по глазам усталым видно – человечный.
Здесь Адама не обидят.
А Дашка будет приезжать. Она не бросит Адама. А он, если повезет, передумает умирать.
И Дашка, скользнув взглядом по строкам контракта, поставила подпись.
Я, Тлауликоли, пишу эту последнюю страницу чужого повествования, в котором в равной мере смешались две половины одной правды.
И хочу верить, что боги рассудят нас.
Не стало больше Теночтитлана. Скоро погибнут и иные земли, но глаза мои не увидят чужой боли, а сердце избавится от мук. Сегодня духи Ушмаля приняли сокровище, переданное мне Куаутемоком, – да подарят ему боги освобождение[5].