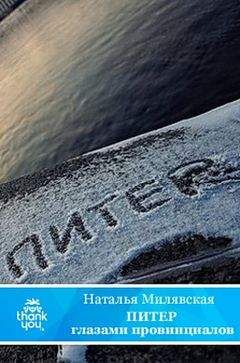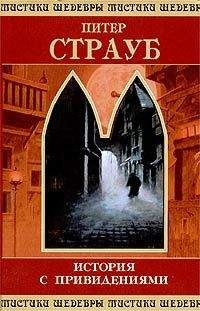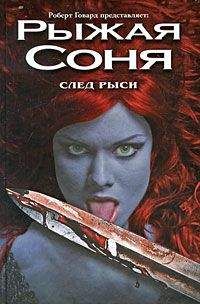она.
И остановилась.
— Лилиан Йонна.
Она подняла на меня взгляд. Я показал пальцем на одно слово ниже. Она посмотрела на листок.
В нижней части было написано «Согласовано».
И стояла подпись «Лиза Скэрсгор».
Написано было без ошибок. Всё было совершенно правильно.
Но написано это было почерком семилетнего ребёнка. Карандашом. Тридцать лет назад.
— Ты позаботилась об этом, — продолжал я. — Тридцать лет назад, в короткое временное окно, когда открылся настоящий мир, ты позаботилась о том, чтобы мы снова смогли с ней встретиться. Оставила условный знак в отстоящем от нас на тридцать лет будущем. Чтобы мы снова встретились.
Я положил перед ней на стол ежедневник Симона. Это был самый обычный ежедневник «Mayland», формата А5, на спирали.
Я открыл его на той странице, где он написал мне прощальное письмо. Она медленно прочитала его вслух:
— «Дорогой мой Питер, я больше не могу жить. Не вижу никакой возможности».
Она заплакала, почти беззвучно.
— Просмотри письмо, — сказал я. — Внимательно.
Она не понимала меня.
— Посмотри на дату в ежедневнике, — подсказал я.
Я показал ей дату на листке, который он выбрал.
— Это было полгода назад, — пояснил я. — Это день, когда он впервые попытался покончить с собой. Он написал мне прощальное письмо на листке с датой его первой попытки самоубийства.
Она всё ещё не понимала меня.
Я ткнул пальцем в верхнюю часть листка. Над письмом было два слова. И телефонный номер.
Это был номер моего мобильного телефона. Рядом было написано: «Лучший друг».
Никаких неточностей не было. И номер был правильный. Он был написан карандашом.
Но не рукой Симона. И вообще не взрослым человеком. Буквы прыгали вверх-вниз.
Это был почерк ребёнка, которому тридцать с небольшим лет назад было семь лет.
Это написал я. Тот, каким я был тогда.
Тридцать лет назад семилетний мальчик написал номер телефона, который появится только тридцать лет спустя. В ежедневнике, который отпечатают через тридцать лет. Чтобы было ясно, кому следует звонить при попытке самоубийства, которая произойдёт в будущем.
— Это ты оставил условный знак, — сказала она. — Чтобы тебя вызвали. В случае попытки самоубийства. Чтобы ты мог попытаться спасти его.
— Ничего не получилось, — сказал я.
*
Мы вернулись в клинику.
Посередине зала стояли два стула.
Мы принесли ещё по одному стулу и, понимая друг друга без слов, расставили их так, чтобы они были обращены к общему центру.
Так мы сидели когда-то в бочке, тридцать с небольшим лет назад. Мы с ней, Симоном и фрёкен Йонной.
Лиза не включила приборы. Мы не надели шлемы. Ставни, жалюзи, закрывающиеся стены не сдвинулись с места.
Мы просто сидели друг против друга, дневной свет и солнечные блики свободно проникали внутрь, наполняя всё помещение.
Фрёкен Йонна вошла в комнату, подошла к нам и села рядом.
Я увидел, что левая кисть у неё покалечена — мизинец и безымянный палец загибались назад.
Она заметила мой взгляд и улыбнулась.
— Срослось неправильно, — объяснила она. — С тех пор врачи научились лучше с этим справляться.
— Но вы не стали исправлять?
— Нет, — ответила она. — Я оставила так. Как… напоминание.
Ей было около пятидесяти. Волосы были седыми, коротко стриженными, она не красила их. А кожа — всё такой же гладкой, но теперь она как-то туже обтягивала череп.
В ней угадывались многие из её возрастов. Маленькая девочка, девушка, с которой мы познакомились в детском саду, двадцатипятилетняя женщина, тридцатипятилетняя. Один возраст сменял другой, они проступали в ней, то и дело меняя её облик.
Нам больше не нужны были приборы. Мы уже почти поняли, как надо встречать друг друга. Как надо встречать другого человека.
— Мы проложили какой-то путь? — спросила Лиза. — Нам удалось это тогда, в бочке? Мы действительно оставляли условные знаки? Подобно тому как научились забирать предметы из сна, мы зашли в будущее и оставили след? Чтобы вот эта встреча и всё это могло осуществиться? Так?
— Ты хочешь понять, — перебил я её. — Ты хочешь понять, чтобы управлять действительностью. Так мы никогда ничего не поймём.
Она не слышала меня.
— Мы забыли, — продолжала она уже громче, — мы оба забыли своё детство. Потому что заглянули в открытое пространство. С этим невозможно жить. Ребёнок не может с этим жить. И мы всё позабыли. Не поэтому ли дети не могут отчётливо вспомнить своё детство? Потому что в какой-то момент для всех открывается настоящий мир. А это очень тяжело выносить. И мы уклоняемся от него. В этом дело?
Её гнев был направлен на меня — это был какой-то животный гнев. Пару мгновений спустя, поняв, что сказала, она откинула голову назад и засмеялась.
Этот смех означал, что ей ничего не дано понять. Что нам всем ничего не дано понять.
Три наши сознания проникли друг в друга.
Мы находились в большом светлом здании, здании личности, здании личностей.
Здесь, в этот момент, нас ещё могли бы остановить.
Мы вновь увидели фрагменты нашей жизни, трёх наших жизней, тысячи картин, они проносились, как облака по небу.
Постепенно клиника перед глазами стала тускнеть, мы почувствовали какую-то вибрацию, когда начали расставаться с фантазиями внешнего мира.
И тут нас тоже могли бы остановить. Но мы справились с вибрацией, внешний мир превратился в бледный мираж, и мы отправились дальше.
Стены здания поблёкли и стали просвечивать, брандмауэры отдельных людей исчезли, наши особенности, наши личные воспоминания, наш возраст и пол — всё это исчезло.
Не то чтобы они на самом деле исчезли, ничего не исчезло. Но это уже не имело вообще никакого значения.
Мы смотрели в море коллективного человеческого сознания.
Нас могли бы остановить сейчас.
Напряжённость усилилась. Ощущение незащищённости. Незащищённости и грозящей опасности нависло над нами.
Мы почувствовали, одновременно, стремление Лизы выйти ко всем людям. Обратиться прямо к тому морю, которое дышало перед нами, пронестись по нему, добиться влияния, славы, принести пользу человечеству.
Мы почувствовали в её сознании одновременно манию величия и сострадание. Как и в каждом из нас.
Мы простились со всем этим.
Я увидел своих детей. То, что я сделал для них, и то, что не смог сделать. Своё желание, желание всех родителей, дать им лучшую жизнь, чем была у нас.
С этим желанием я уже не мог расстаться. И не хотел расставаться.
— В самом желании, наверное, нет ничего плохого?..
Это сказала фрёкен Йонна.
— Может, в самом желании и нет ничего плохого. Может быть, просто не нужно цепляться за то, с чем пора расстаться.
Я перестал думать об этом желании. О лучшей жизни.