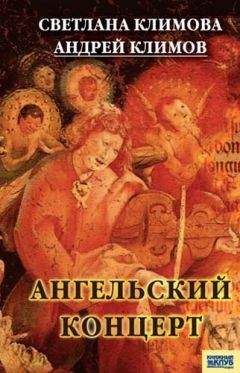— Дневник? Нина пишет обо мне? — глухо спросил он, почему-то пользуясь настоящим временем.
— Да, — подтвердил я, — и немало. Она всегда считала вас другом — своим и мужа, и никогда не забывала о тех днях, когда Дитмар Везель и его дочь вернулись из ссылки. Я думаю, за исключением Матвея Ильича, вы были для нее самым близким человеком. Вам повезло — она не успела в вас разочароваться.
Тут Галчинскому полагалось бы расчувствоваться, но едва я упомянул Матвея Ильича, он сорвался. Его лицо налилось опасной темнотой, а нижняя губа отвисла еще сильнее.
— Матвей!.. — странно вздергивая левый локоть, вскричал он. — Великий эгоист! Всю жизнь он носился со своей драгоценной особой и со своим не таким уж великим даром, не замечая великолепной, единственной в своем роде, преданной и великодушной женщины! Той, которая изо дня в день предоставляла ему возможность играть в свои безумные игры… Недаром сказано: душа любого художника, будь он из гениев гений, битком набита малыми, а порой и большими подлостями! Этот спектакль тянулся годами, и Матвей со своим чистоплюйством, снобизмом, со всеми своими четками и обожаемым Грюневальдом, на котором он просто помешался, сковывал ее по рукам и ногам. Настоящее рабство! И ведь что убийственно — из этого ничего не вышло. Матвей остался таким же, каким и был, не поднялся ни на миллиметр и в конце концов вынужден был заняться тем, с чего начинал!..
— Вы имеете в виду его работу в последние годы?
— Что же еще?! Любому невежде ясно, что реставратор, каким бы специалистом он ни являлся, всего лишь бледная копия настоящего художника. Halbfertige Geselle! — с отвращением выговорил он. — Недоделанный подмастерье! За его фальшивым самоуничижением пряталось не что иное, как творческое бессилие — уж я-то знаю… Они оба порой казались мне брейгелевскими слепцами, заблудившимися в собственном доме, и Нина, как сомнамбула, всегда шла за ним, только за Матвеем, слушая его одного и не обращая внимания на других. Любовь, скажете вы? Чепуха! И я совершенно уверен — слышите! — что именно Матвей, поняв наконец, что потерпел окончательное поражение, подбросил ей идейку о совместном уходе — подлую, напыщенную, как в плохом балагане, страшную в своем цинизме, и Нина покорилась, как покорялась всегда и во всем!..
Он уставился на меня, будто я возражал, но я и не собирался спорить. Впервые в его словах прорвалось обнаженное чувство. Мне даже показалось, что на глазах у него выступили слезы.
— Вы, должно быть, его ненавидели? — спросил я.
Ответа на свой вопрос я не получил. Скрипнула половица в коридоре, Галчинский отрывисто пролаял:
— Ступай в кухню, Агния Леонидовна! Нечего тебе делать под дверью.
Когда шаги женщины затихли, я сказал:
— Неужели вы в это верите, Константин Романович?
— Во что? — хрипло пробормотал он.
— В то, что Матвей и Нина Кокорины все-таки покончили с собой?
Он дернулся, очки в тонкой золотой оправе спорхнули с края стола и приземлились на ковре. Я наклонился, одновременно за очками потянулся Галчинский, и наши пальцы соприкоснулись. Его лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего. Я перевел взгляд — на запястье Константина Романовича лиловел приличный синяк.
— Молодой человек, — произнес он сдавленно, — вы просто не представляете, во что вы впутались… Мой вам совет — возвращайтесь домой как можно скорее и забудьте все, что случайно узнали. Это в ваших интересах…
Галчинский выпрямился, тяжело дыша, и схватился за бок.
— Это связано с тем, о чем писала Нина Дмитриевна? Тайна Везелей?
Константин Романович шагнул к окну, водрузил очки на нос, пристально обозрел пустой сад, а затем обернулся ко мне. На его губах играла желчная усмешка.
— Тайна Везелей! Не знаю, что вы под этим подразумеваете, но уверен, что Нина не пишет об этом ни слова. Сама она о чем-то смутно догадывалась, Матвей ни о чем не подозревал, да и никто не подозревал. Последним, кто знал все доподлинно, был Дитмар Везель, но он мертв и молчит; с тех пор прошло полвека — все окончательно забыто… Нина как-то пожаловалась мне, что ей кажется, будто за ней следят, что вокруг сгущается какая-то потусторонняя жуть, но я-то понимал: никакой слежки нет, просто она смертельно устала, а на душе у нее невыносимая тяжесть. И что тут удивительного? Ей приходилось в одиночку бороться со всем миром, а я не мог ей ничем помочь!
Я подтвердил, что Нина Дмитриевна действительно упомянула слежку и еще несколько неприятных эпизодов, и спросил: если все и в самом деле так и обстояло, то что означает его совет убраться отсюда и побыстрее все забыть?
Он промолчал, а я припомнил те места в дневнике, которые касались самого Константина Романовича. Образ верного друга дома, симпатичного, но скучноватого витии и жизнелюба, порой начинал двоиться в глазах Нины Кокориной, и один из этих раздвоенных Галчинских выглядел далеко не таким славным и простецким малым, как другой.
— Зачем вас послали сюда? — наугад спросил я, не надеясь услышать что-нибудь вразумительное.
Реакция Галчинского оказалась неожиданной. Он вскочил, дважды пересек гостиную из угла в угол, задержался у лестницы, ведущей наверх, и только после этого бросил через плечо:
— Глупо. Бросьте вы эти ваши смехотворные выдумки. Кто меня мог послать?
— Тот, кто уже однажды использовал вас. В день похорон Кокориных.
— Каким же это, извините, образом?
— Вы ведь не станете отрицать, что некоторое время провели тогда в комнате Нины Дмитриевны, тем более что сами же и сообщили мне об этом?
— С какой стати? Так и было. Эта нелепая стычка с Анной и неизвестно откуда взявшейся подругой Нины…
— Ну конечно, — сказал я. — Но есть и еще кое-что. Окно на втором этаже осталось открытым. А спустя несколько дней через него проник в дом посторонний, о котором нам ничего не известно, кроме того, что грабителем он не был. Как вы думаете, что ему могло здесь понадобиться?
— Окно… — Галчинский пожевал губами. — Возможно, кто-то и открывал его, не помню…
— Кроме того, был отключен датчик сигнализации. Преднамеренно. Если это сделали не вы, остается только ваша спутница. Кто она такая, эта Синякова?
— Евгения? — растерянно пробормотал он. — Невозможно! Да у нее не хватит ума обвести вокруг пальца трехлетнего ребенка, не то что… Обычная молодая женщина, вполне милая, в прошлом филолог, подрабатывает журналистикой, живо интересуется искусством. Я знаю ее с незапамятных времен, еще когда она была девчонкой-первокурсницей; они с мужем не раз оказывали мне дружеские услуги, и отношения у нас самые теплые. Есть в ней, разумеется, некоторая, скажем, экзальтация… Мне, например, никогда не нравилось, что они с мужем посещают какую-то новомодную церковь — «Светоч Правды» или что-то в этом роде…
— «Свет Истины», — подсказал я.
— Совершенно верно, — согласился Галчинский, — «Свет Истины». Но я представить не могу, что она могла бы…
У меня было достаточно времени, чтобы сопоставить историю с «похищением», которое продолжалось всего несколько часов, общее состояние Константина Романовича и его действия в следующие двадцать четыре часа.
— Чего они от вас добивались? — спросил я.
— Кто? — удивился Галчинский, но острый кадык на его жилистой, обтянутой гусиной кожей шее заходил ходуном.
— Те, кто вас похитил.
— А с чего вы взяли, что меня кто-то похищал?
— Я сидел в машине рядом с Павлом Кокориным, когда позвонила Агния Леонидовна. Это ее слова.
— Что за чепуха! — довольно натурально возмутился он. — Ничего подобного. Просто я не смог с ней вовремя связаться, и Агния, решив, что со мной что-то случилось, перепугалась. Вполне естественно.
Теперь он лгал вместо того, чтобы просто проигнорировать мои вопросы.
— Тогда почему вы сразу по возвращении домой бросились к Анне за ключами, а сегодня с утра оказались в гостиной Кокориных? И прошу вас — давайте оставим в покое книги, можно было изобрести предлог поубедительнее. Ностальгические воспоминания? Бросьте, Константин Романович. Скажите лучше — что вам приказали здесь найти?
— Никто ничего не приказывал, — с угрюмым упрямством произнес он, затем дернул головой, будто отгоняя назойливую муху, и неожиданно закончил: — Вас когда-нибудь били по ребрам горным ботинком?
Странный был вопрос, но ничуть не более странный, чем весь этот разговор.
— Неоднократно, — сказал я. — Если прозевать момент и не закрыться предплечьями, не исключены множественные переломы ребер и разрывы плевры. Печень опять же… но это уж как повезет.
— А меня впервые, — скорбно выдавил Галчинский. — Сильное впечатление для человека, которому далеко за семьдесят.
Общность негативного опыта нас и сблизила. В следующие четверть часа Константин Романович на одном дыхании выложил все, что с ним случилось накануне.