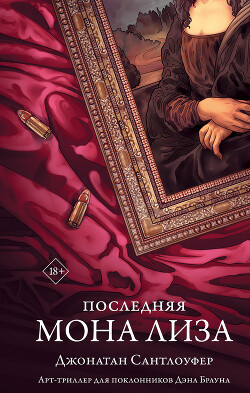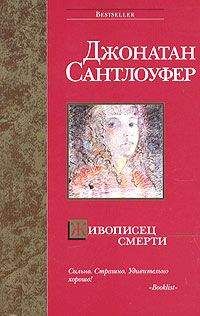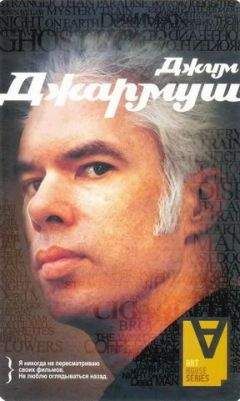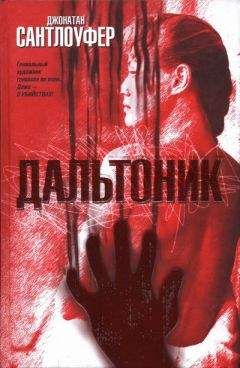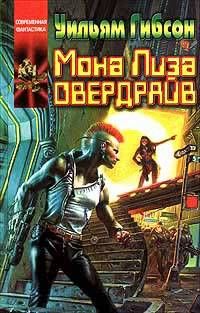значок: Даниэль Кабеналь, Генеральная ассамблея, Лион, Франция. Дама холодным кивком отпустила копов, села и положила руки на стол. Ногти у нее были не накрашенные, короткие и идеально подстриженные.
– Вы прямо из Лиона? – спросил я.
– Здесь недалеко лететь, – ответила она по-английски.
– Который сейчас час? – Я успел потерять счет времени, и мобильник куда-то подевался.
– Около десяти утра. Хочу выразить вам сочувствие.
– Пустяки, – заметил я, – несколько синяков.
– Я имела в виду аналитика Смита.
– Что с ним?
– Он в критическом состоянии. Боюсь, что он не выживет.
Сначала меня бросило в жар, потом в холод. Я вскочил на ноги, в голове опять зашумело, и я ухватился за спинку стула, чтобы не упасть.
– Этого не может быть… У него было несколько порезов и синяков, но…
– Боюсь, все гораздо хуже, – говорила Кабеналь, и лицо у нее оставалось непроницаемым, как у сфинкса. – Внутреннее кровоизлияние, большая потеря крови…
– Но я же был рядом с ним, боже мой… Он же улыбался. Он должен выжить!
– Если верить врачам, вряд ли. Мне очень жаль. – Чего нельзя было сказать ни по ее виду, ни по голосу.
– Где он, в какой больнице? Я должен его увидеть.
– Это невозможно. Он в реанимации. В том маловероятном случае, если он выживет, вы с ним больше не должны контактировать.
– Даже нельзя узнать, жив ли он?
Инспектор Кабеналь сжала губы, словно сдерживая слова, которые хотелось, но не стоило говорить. Потом все же решилась.
– Если аналитик Смит выживет, он будет уволен – да он уже уволен, его действия были неприемлемы – и вы больше не будете с ним контактировать. Понимаете? – Она уставилась на меня, ожидая ответа.
– Давайте договоримся. Если вы…
– Мы не вступаем ни в какие сделки, мистер Перроне.
– Просто дайте мне знать, поправился ли он. Это все, что мне нужно. Иначе… – я посмотрел ей в глаза, – я выясню все сам, и не представляю, как вы сможете меня остановить.
Глаза Кабеналь сузились.
– Я могу вас остановить, мистер Перроне, и я это сделаю. Но… хорошо, если он выживет, я дам вам знать. Однако вы больше не будете выходить на контакт с ним, таково условие с нашей стороны. Договорились?
Я едва заметно кивнул.
– Вот и хорошо. – Кабеналь сцепила руки на столе и перешла к делу. Она предупредила, что они уже изучили компьютер и записи Смита.
– Я в курсе, что вы помогали ему. Вовлекать в это дело гражданское лицо было ошибкой – хотя и наименьшей из всех, что он совершил. У него вообще не было полномочий этим заниматься.
– Чем заниматься? – спросил я с самым невинным выражением лица. Кабеналь лишь чуть приподняла одну бровь.
– Не скромничайте, мистер Перроне. Мы знаем, что ему было нужно, зачем он шел в Лувр. Он говорил вам, что уполномочен заниматься этим делом?
– Нет. В общем-то, он дал понять, что это не так, что он действует сам по себе.
– Интерпол так не работает, – сказала Кабеналь гневно; ей даже потребовалось коротко вздохнуть и без необходимости поправить подогнанный по фигуре пиджак, чтобы вернуть на лицо выражение невозмутимости. – Его, безусловно, уволили бы только за это.
– Не знаю ничего про Интерпол, – ответил я, – но могу сказать, что Смит хороший человек, преданный своему делу.
– Этим делом теперь будет заниматься Интерпол, вместе с парижской полицией. Вот так это делается. Мы выпустили красное уведомление на человека, который напал на вас и аналитика Смита.
Кабеналь спросила, что я могу рассказать о нападавшем. Я начал описывать его, но она вскоре остановила меня, ушла и вернулась с художником-криминалистом старого покроя, который рисовал углем по бумаге. Он попросил Кабеналь оставить нас на время одних.
– У меня лучше получается, если я работаю наедине со свидетелем, – сказал он.
Кабеналь, поджав губы, поколебалась и ушла.
Художник оказался американцем по имени Нейт Родригес; парижская полиция одолжила его для какого-то важного дела, о котором он не имел права рассказывать. Это был энергичный, но приятный мужчина примерно моих лет, родом из Нью-Йорка – отчего я сразу заскучал по дому. Он предложил мне устроиться поудобней и рассказывать. Я начал описывать внешность бандита, и Родригес несколько раз уточнял: форму лица – «круглое… нет, скорее квадратное и широкое», форму носа – «плоский, как будто сплющенный», глаза – «глубоко посаженные, светлые, голубые или серые, почти бесцветные».
Художник обесцветил глаза на рисунке. Я смотрел, как под его руками постепенно проступает образ.
– У вас хорошо получается.
– Я давно этим занимаюсь.
– Зубы, – вспомнил я, глядя на ехидную улыбку нарисованного бандита. – Они у него короткие и потемневшие.
– У вас хорошая зрительная память, – похвалил Родригес. Его рука с угольком двигалась по бумаге, по мере того как я вспоминал и проговаривал детали. Через некоторое время он повернул блокнот, чтобы мне было лучше видно.
– Очень похоже, – оценил я и посоветовал ему сделать нижнюю челюсть пошире, опустить лоб и расширить рот, оставив губы тонкими. Он стирал и тут же перерисовывал, следуя моим указаниям, в общем, мы прекрасно взаимодействовали. Еще минут через пятнадцать-двадцать он снова повернул блокнот.
– Господи, это он. Как вы это сделали?
– Это вы сделали, – ответил Родригес. – Я лишь следовал вашим указаниям.
– Ну, я не знаю. – Я уставился на рисунок с чувством выполненного долга, к которому примешивался холодок узнавания.
Инспектор Кабеналь изучила эскиз и сказала, что Интерпол прогонит его через свои идентификационные базы данных и отправит по факсу во все полицейские участки Парижа.
– По-моему, не исключено, что он убил еще несколько человек, – предположил я, вспомнив молодого монаха и Кватрокки.
– Вам нужно написать заявление обо всем, что произошло. Все, что вы помните, – сказала Кабеналь.
– Я и так уже ответил на все ваши вопросы.
– Не на все. – Она подкрепила свое возражение новым вопросом. – Что вы предпочитаете: ноутбук или ручку и бумагу?
Я выбрал ноутбук и долго печатал. Подробно описал, как получил электронное письмо Кватрокки и приехал во Францию, как впервые пришел в библиотеку, как волновался, обнаружив дневник и начал его читать. Написал о предупреждении брата Франческо – Ha un amico a Firenze? [82] – и о своем подозрении, что это могло стать причиной его смерти. Я написал о своих поисках книготорговцев в Париже и Флоренции и их подозрительных смертях. Написал об Этьене Шодроне и его девушке, и их окровавленные лица и мертвые тела всплывали в моем сознании. Не забыл я и о недостающих страницах за картиной Вермеера, и об инициалах Шодрона на подделках. Описывая все это – каждую деталь, каждое событие, произошедшее с тех пор, как я выехал из