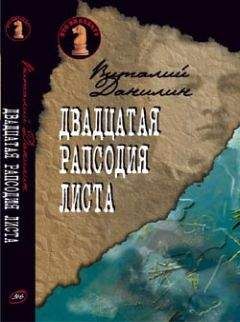Интересная фраза у Чернышевского: «значит, не застрелил, а застрелился». Ну, а почему бы не то и другое? А не довелось ли нам вчера вытащить из реки и преступника, и жертву? Не оказались ли мы свидетелями последнего акта вечной трагедии бурной и преступной страсти? Когда герой убивает неверную возлюбленную, а после сам, терзаясь раскаянием, бросается в ледяную воду?…
Может показаться странным, но едва это предположение возникло в моей голове, как я почувствовал некоторое успокоение. Действительно: что таинственного можно усмотреть в извечном кипении человеческих страстей? Ведь вся литература о том лишь и толкует! Раскольников у Достоевского, король Лир у Шекспира, бедная Лиза у Карамзина, Катерина Измайлова у Лескова… – ах, Боже мой, да ведь и там в финале багры и река! Вот и еще одно совпадение, теперь уже мысленное!
Но сколь бы преступны и дики ни были понятные каждому страсти, никогда не напугают они нас настолько, насколько могут напугать явления, необъяснимые вовсе. Нет, не насмешка мертвеца, описанная князем Одоевским. И даже не такие события, с какими мы столкнулись накануне, а просто – нечто таинственное. Да вот… хоть тени, исчезающие и вновь появляющиеся по снегу в лунную ночь. Ведь зябко от них становится, хотя всего-то – облачка на луну наползают.
А убийство возлюбленной из ревности, с последующим раскаянием и самоубийством, – не пугает! А смерть старухи-процентщицы – не страшит! А леди Макбет Мценского уезда, увлекающая в пучину Сонетку, – не бередит душу! Не зябко от таких впечатлений – ну, ежели, разумеется, действующие лица этих трагедий не знакомы вам лично.
Вернув книгу на место, я налил себе еще рюмку рябиновки и уже безошибочно раскрыл Толстого.
«Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.
– Черт возьми, как нынче у нас плохо! – говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.
– Где у нас? – спрашивает его другой.
– На четвертом бастионе, – отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвертом бастионе»…»
Я прочел это уже даже не про себя, а вполголоса.
– Да-да, уважаемый Лев Николаевич, именно так… – пробормотал я, отрываясь от книги и глядя задумчиво на огонь в печи. – Именно, что на четвертом бастионе, там же и летела в меня пуля… Пошел тому уж тридцать четвертый год, благодарение Богу…
И долго еще я читал страницу за страницей любимую книгу, не вспоминая более о дневном происшествии. Настолько живо описан был Севастополь Львом Николаевичем и настолько ярки были мои собственные воспоминания, пусть и треть столетия спустя, что я размышлял о героях повестей как о живых людях, а о событиях тех дней – как о недавних происшествиях. Белобрысенький морской офицерик был мне как брат, и нехорошие котлетки не комунибудь подавали, но мне самому, а вот Фенька как была всегда для меня загадкой, так загадкой и осталась – нигде больше не упоминается эта безвестная Фенька, кто она, почему о ней рассказывали в трактире – ни одному офицеру в зеленом вязаном шарфе не ведомо…
Так и уснул я, прости Господи, в кресле у печки, с пустою рюмкой в одной руке и «Севастопольскими рассказами» в другой. Лампа на столе выгорела и потухла. К тому времени небо на востоке уже начало светлеть – мутно и блекло, как бывает в пасмурную январскую погоду. Этот толокняный кисель зимнего рассвета смешался в моей голове со строками Чернышевского и картинами Толстого, с покойниками, выловленными в реке, с моими собственными о том представлениями, с невразумительной Фенькой и – что уж греха таить! – с парами рябиновки. Все это вилось, вилось в моем мозгу, пока я не провалился в темный сон без сновидений. Как я перебрался из кресла в кровать, даже и не упомню.
Разбудил меня громкий стук в дверь. Такой громкий и такой требовательный, что и в спальне и сквозь сон я его услышал и немедленно проснулся. Часы напротив кровати показывали четверть одиннадцатого. Поднявшись, я сунул ноги в войлочные туфли пермской работы, надел свой драповый халат и кое-как пригладил колючей щеткой волосы.
Стук повторился, послышались шаркающие шаги Домны.
– Дома, дома, – громко сказала она кому-то. – Сейчас кликну.
Но я уж и сам вышел в сени и тут же поежился от холодного воздуха.
Я ожидал, что это Артемий Васильевич навестил меня с визитом – вместо несостоявшегося вчерашнего. Однако же утренним гостем оказался человек, которого я никак не чаял сейчас увидеть, – Егор Тимофеевич Никифоров, собственной персоной. Все в той же своей черной длинношерстной папахе, в шинели офицерского кроя на теплой стеганой подкладке, с черным каракулевым воротником. Я видел, что урядник едва сдерживается, чтобы не начать говорить прямо с порога. Признаться, мне не хотелось вести с ним разговор при кухарке. А что разговор должен был оказаться неприятным – иного я после вчерашних событий и не ждал. Как не ждал и сдержанности от нашей кухарки, души не чаявшей в моей дочери и потому немедленно рассказывавшей ей все, что могла узнать сама. Поэтому я не стал выслушивать в сенях то, что имел сообщить урядник, а провел его в комнату.
Едва я предложил гостю сесть и прикрыл поплотнее дверь – и от холода, и от любопытных ушей Домны, – как Никифоров заговорил. При том на лице его обозначилась растерянность, обыкновенно уряднику не свойственная.
– Не обессудьте, Николай Афанасьич, – сказал он, водружая на обеденный стол полукруглый кожаный баул и еще какой-то объемистый темный сверток, тщательно перевязанный бечевой. – Есть надобность в вашей помощи.
Я сел напротив. Настроение мое, и так не ангельское, в силу всех событий и несообразно проведенной ночи, еще более ухудшилось.
– Как вы знаете, мы с Кузьмой Желдеевым позавчера отвезли покойничков наших в уезд, в Лаишев, – сказал урядник. – Вернулись вчера, то есть уже сегодня, хорошо за полночь, подъехали к дому, вдруг вижу: будто какая тень от ворот метнулась. Думал – показалось, ан нет! Во дворе, у ворот самых, что-то чернеет. Вот, не угодно ли. – Он указал на сверток. – Видать, через ворота перебросил.
– Кто перебросил? – спросил я, внимательно разглядывая сверток. – И что здесь такое?
– Уж и не знаю, кто. Кузьма божится: никого не было, а тень мне привиделась. А ежели не привиделась, говорит, так, может, сам черт проскочил. Или душа утопленника никак не успокоится. Ну, Желдеев и не такое отморозить может. – Урядник раздраженно покрутил головой. – Вот ведь человек – что он есть, что его нету. Глаза вроде на месте, голова тоже как надо сидит, но если требуются меткость взора и память ума – хоть убей, от блажного дурачка и то больше толку будет. А еще сотский называется… – Никифоров махнул рукой. – Словом, не знаю, кто к дому подбирался, а только вещи здесь очень даже интересные. Извольте убедиться. – Он вынул из кармана перочинный нож, разрезал бечеву. Увидев мой удивленный взгляд, пробормотал: – Ничего, это я уже потом сам перевязал, чтоб нести удобно было…
Урядник развернул темную рогожу, а там обнаружились и вправду очень интересные вещи: хорошего покроя длиннополый сюртук из коричневого сукна с атласными отворотами, того же цвета бекеша, шевровые сапоги с низкими голенищами, темно-серые верблюжьи штаны. Все – добротное, сшитое не без изящества.
Поверх вещей лежал юфтевый бумажник с вытисненным на нем вензелем «R» и «S», уже виденным нами.
– Да, – сказал Никифоров в ответ на мой вопросительный взгляд. – И размеры подходят нашему утопленнику.
Он повертел в руках бумажник.
– Да только пуст он, портмонет-то, – ни бумаг, ни денег… – Никифоров вздохнул. – Вот разве одна бумажка в нем застряла. Из-за нее я к вам и пришел.
Урядник раскрыл кожаный баул и вытащил из него сложенный в четыре раза лист бумаги.
– Написано тут что-то, – сказал он. – Не по-нашему. Подумал – может, вы прочтете, Николай Афанасьич? Глядишь, и прояснится дело-то – кто такой да зачем в холодную воду полез. А? – Он протянул мне листок. Я развернул.
Действительно, примерно половина листа была исписана стремительным почерком.
– Увы. – Я развел руками. – Я, Егор Тимофеевич, владею французским, а это не он. Похоже на немецкий. Вот тут, над «о», две точки. Называется «умлаут» – так немцы пишут. И многие слова с заглавной буквы. Тоже немецкая манера.
Говоря так, я, разумеется, лукавил. И немецким языком владел уж не хуже, чем французским; как же без этого, коли хозяева мои прежние частенько между собой по-немецки разговаривали. Да и нынешние хозяйки и их дети то и дело вставляли в речь немецкие словечки и выражения. Так что смысл письма, обнаруженного урядником, мне был вполне понятен. Но захотелось мне познакомить с находками молодого Ульянова. И, дождавшись, чтобы огорченный урядник раскрыл баул и собрался уже спрятать туда листок, я осторожно сказал, словно бы только сейчас вспомнив: