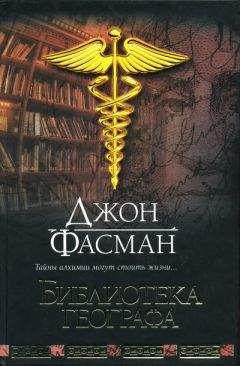Леон, третий сын, предпочел в Советской армии, угробившей его братьев, не служить, убежал в Турцию и обосновался у подножия Тальских гор. Там он принял мусульманство, прервал все контакты с семьей, открыл маленькое кафе в тенистом месте и до сих пор здравствует, ведя обеспеченную, но довольно бесцветную жизнь, хотя временами его и тревожат призраки прошлого.
Лаврентий женился на девушке с лошадиными зубами и толстыми лодыжками, из интеллигентной семьи со средним достатком, и со временем стал весьма преуспевающим батумским дантистом, хотя в частной жизни был ленив и безынициативен. В 1983 году, когда все, включая жену, считали его слишком старым для невозвращенца, он был послан в Филадельфию на международную конференцию зубных врачей в качестве делегата от республики Грузия. Оказавшись в Филадельфии, он попросил политического убежища и на родину уже не вернулся.
За четыре месяца до этой поездки его кузен Борис (сын родственника, который, как шептались, предал отца Лаврентия) приехал в Батуми из Ленинграда. Не для того, разумеется, чтобы там обосноваться — к этому времени он уже сделал карьеру партийного функционера и курировал школу марксизма-ленинизма при советском военно-морском офицерском тренировочном центре в Прибалтике, — но чтобы навести справки относительно «двух забавных монеток, которые дедушка перед смертью собирался закопать в церкви, чтобы русские не наложили на них лапу». Зарытые, увещевал своего родственника Борис, они никакой пользы не принесут, но зато станут гордостью жителей Батуми, когда их выставят в Музее искусства народов СССР в Москве. Он говорил, что для себя ему ничего не нужно, лишь бы в старинном доме их общих предков открыли новую школу. А если власти в этой связи назовут школу именем славного сына города Батуми, то есть его именем, — что ж, он возражать не станет. Лаврентий старше Бориса и, возможно, лучше помнит рассказы дедушки. Возможно, он даже помнит, где именно дедушка закопал эти монетки. Если нет, Борису придется прислать команду русских специалистов, чтобы те разобрали церковь по кирпичику и как гребенкой прочесали развалы и территорию храма.
Ориентировочная стоимость. Лаврентий глубокой ночью выкопал монеты голыми руками — точно так, как закопал их когда-то с дедушкой, — после чего зашил в подкладку своего чемодана. Во время своей первой поездки в Нью-Йорк он по объявлению на последней странице газеты «Новое русское слово» продал монеты за ничтожную сумму, которой едва хватило, чтобы оплатить обратный билет до Калифорнии. Вернувшись, он открыл в Бейкерсфилде зубоврачебный кабинет, изменил имя и стал называться Ларри Маком.
ЭТО ВЕЩЕСТВО СУТЬ СРЕДОТОЧИЕ ВСЕХ ГЛАВНЫХ СИЛ, ПОСКОЛЬКУ СПОСОБНО ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБУЮ ТОНКУЮ СУБСТАНЦИЮ И ПРОНИЗАТЬ ЛЮБУЮ ТВЕРДУЮ ФОРМУ
Я пребывал на дне океана; меня били по ушам разрядами электрические угри, и я кричал от боли. Я находился посреди пустыни; меня испепеляло солнце, а рядом выла голодная гиена. У меня на голове сидел толстяк, игравший на кларнете, и изводил меня вибрировавшими на высокой ноте пронзительными звуками. Я лежал на полу вагона метро. Кто-то набил мне глотку гниющей кониной пополам с жевательной резинкой, а потом заклеил рот липкой лентой. Двери вагона закрывались под громкие непрерывные звонки.
Я прикончил почти две бутылки красного вина. В комнате надрывался телефон.
Я неуклюже, словно робот, поднялся с дивана — полностью одетый, даже в ботинках, — негнущимися пальцами вцепился в телефонную трубку и пробормотал:
— Угхм…
— Пол?
— Да?
— Ты все еще на меня работаешь?
— Господи, Арт! — Я попятился, наступил в лежавший на полу пластиковый контейнер с остатками соуса, опрокинул его, потерял равновесие и, словно проколотая резиновая грелка, шлепнулся на пропахший вином диван.
— Ты что, заболел? Донна просила передать, что в случае чего может принести тебе кастрюльку супа.
Я потер сухое, как бумага, лицо и на секунду прикрыл глаза. Но и после этой операции комната продолжала раскачиваться. Я все еще был пьян; похмелье даже не начиналось.
— Нет, я не болен. Просто вчера у меня был… хм… бурный вечер.
— Ага! Понимаю, — проникновенно произнес Арт. — Между прочим, звонила Эйлин Кроулин. Хотела узнать, как продвигается твоя работа, и я был вынужден сознаться, что не имею об этом ни малейшего представления. — Он сделал паузу. Я молчал, не зная, что ответить. — Итак, как продвигается твоя работа?
— Отлично! — Я был не в настроении и тем более не в состоянии рассказывать ему о событиях, случившихся в последние несколько дней. В своем нынешнем положении я едва осознавал, что у меня есть руки.
— Хорошо, коли так. Отлично — значит, отлично, и к этому прибавить нечего. Но тебе следует позвонить Линни до конца недели. Она здорово заинтересовалась твоей работой. Да и ты, кажется, тоже заинтересовал ее. Поверь мне, Пол, нельзя упускать такой случай.
Поддерживать разговор о собственной персоне я не мог, да и не заслуживал подобного внимания. Поэтому ответил односложно:
— О'кей.
— Отлично. О'кей. Отлично. О'кей… С тобой сейчас разговаривать — все равно что с моей дочкой в тринадцатилетнем возрасте. Попей воды, полежи, а во второй половине дня забеги все-таки в редакцию. Есть кое-какая работенка. Да еще и Остел просил передать, что соскучился по тебе.
— Кто бы сомневался… — прохрипел я. — Ладно, через пару часов увидимся.
— Повторяю: вода, сон, горячая ванна, бритье. В таком вот порядке. Если потребуется, повтори. Обычно таким вещам учишься еще на первом курсе.
— Вот как? А я думал, на первом курсе вас учили брать интервью.
— И этому тоже. Кстати, об интервью. Разве тебе не говорили, что приударять за интервьюируемыми неэтично?
— Арт, я…
— Это я специально сказал, чтобы жизнь не казалась тебе медом. В маленьких городах слухи распространяются быстро. Твоя частная жизнь меня не касается, и уж тем более я не собираюсь в ней копаться. Но очень надеюсь, что это не превратится у тебя в систему. Такого рода ухаживания не способствуют хорошей репутации.
— Принял информацию к сведению.
— Так и должно быть. Ну, крепись. Жду тебя через несколько часов.
После пары стаканов воды и имбирного эля, а также длительного отмокания в крошечной ванне и особо тщательного бритья с ментоловым мыльным кремом состояние, в котором я находился, трансформировалось из кошмарного в просто очень плохое. По прошествии следующих сорока пяти минут ощущение ватной сухости во рту покинуло меня — вместе с повышенной кислотностью и тяжестью в желудке. Я снова стал почти нормальным человеком и даже счел подобное состояние вполне соответствующим сидению в офисе.
Направляясь на работу, я проехал мимо Академии Талкотта, и пока не увидел ворота, притворялся, что вовсе не собираюсь заезжать туда, чтобы повидать Ханну. Точно так же, покидая дом во время ленча, я притворялся, будто не знаю, что она в это время свободна. Но каким бы хитрым притворщиком я ни был, границ в этом смысле не переступал — потому-то и свернул в ворота, когда они открылись моему взору.
В школьном офисе царила расслабляющая обстановка приятного ничегонеделания. Три анемичные секретарши в разных стадиях среднего возраста сидели за тремя идентичными письменными столами на равном удалении друг от друга. Та, что слева, с отсутствующим видом созерцала пустую поверхность своего стола; та, что справа, тихо говорила по телефону; та, что в центре, подняла глаза и посмотрела на меня без малейшего проблеска заинтересованности. Со стороны можно было подумать, что все они спали в нафталине и питались исключительно липовым чаем — воплощенный образец идеальной секретарши из Новой Англии, работающей в частной школе. Я дружелюбно (так мне казалось) кивнул той, что в центре; она, продолжая меня созерцать, неуловимым движением заправила невидимую прядку за аккуратное, идеально чистое ухо. Я спросил, как пройти в кабинет Ханны Роув. Она кашлянула, сняла пальцем невидимую пушинку со столешницы и указала на человека, стоявшего у почтовых ящиков:
— Следуйте за мистером Хитерингтоном.
Услышав свою фамилию, тот распрямился и одарил нас вопросительным взглядом. Потом подошел ко мне и протянул руку. Пожимать ее было все равно что стискивать пальцами влажный пакет с черенками для рассады. Я поблагодарил секретаршу, но она уже переключила внимание на учетную карточку учащегося, в которой что-то подтирала ластиком, и даже не посмотрела в мою сторону. Следуя за декоративными заплатками на локтях пиджака мистера Хитерингтона, я миновал несколько холлов и поднялся на один пролет по лестнице. Там мистер Хитерингтон указал мне на двойные двери в конце коридора. За все время он не произнес ни слова, и если бы я хоть немного верил в привидения, подтвердил бы своим ненавязчивым присутствием факт их существования.