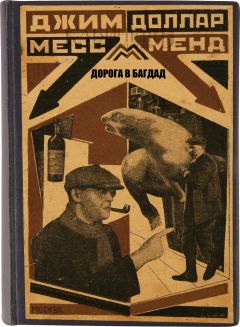— Ты уж скажешь.
— Особенно тошно становится днем. С утра еще чего-то ждешь, на что-то надеешься, а выпьешь кофе в полдень, и кажется, будто солнце и облака застыли в небе.
— Знаешь что? Давай-ка отправимся с тобой в «Руидеру» и перекусим там.
— Там тоже воскресенье, дон Лотарио.
Внезапно их беседу прервал чей-то возглас:
— Восемь часов! Пора на покой!
Дон Лотарио и Плиний огляделись по сторонам, но никого не обнаружили, кроме ребятишек, которые, прекратив беготню, тоже с любопытством озирались вокруг.
Снова послышался чей-то веселый голос и смех:
— Эй, дон Лотарио, эй, Плиний! Призываю вас к объединению!
Из-за машины, стоявшей на автомобильной стоянке, показалась увенчанная беретом голова Браулио, который громко хохотал, что отнюдь не пристало философам. Двое ребятишек, увидев его, тоже рассмеялись. Плиний и дон Лотарио, заметив Браулио, одновременно показали в его сторону пальцами.
— Гляньте-ка? философ на стоянке машин! — воскликнул дон Лотарио.
— Не на стоянке, сеньор ветеринар, а на жалком ее подобии! — прокричал им Браулио, распрямляясь во весь свой громадный рост и простирая к небу длиннющие руки.
— Видишь, Мануэль, на нашего философа осень действует бодряще.
Все еще стоя за машиной, Браулио снова прокричал:
— Добро пожаловать ко мне в погребок распить в мирной, веселой компании кувшин доброго белого вина и отведать сыра в масле, того, который готовит Мигель Уертес. Сыр отменный! Вкусный-превкусный! Пальчики оближете! Ну как, принимаете приглашение?
— Принимаем! — откликнулся дон Лотарио, поднимая руки вверх в форме латинского V. — Пойдем, Мануэль. Белое вино и сыр в масле сразу развеют твою свадебную и воскресную хандру. Не говоря уже о прочем.
— Я все время размышлял, чего мне не хватает, — задумчиво произнес Браулио, когда друзья присоединились к нему, — а стоило увидеть вас, сразу понял: мне не терпелось поесть сыра в масле и выпить белого вина в компании двух таких вот дискредитированных блюстителей законности... Да, да, именно дискредитированных. Иначе вас не назовешь. Мне все известно, хотя я целыми днями копошусь у себя в житнице, вылавливая блох.
Плиний нахмурился, давая понять, что пресечет любые попытки коснуться этой темы.
— А вы тоже хороши, нечего сказать! — продолжал Браулио. — Гуляете тут и даже не вспомнили обо мне.
— На кладбище, куда упирается эта улица, есть персоны поважнее тебя, Браулио, — не скрывая досады, почти мстительно ответил ему Плиний.
— Куда им до меня, начальник! На кладбище, где гниют покойники, самая важная персона — могильщик... да и тот, разумеется, не чета мне... Мертвецы же, как только уходят в свой бессрочный отпуск, перестают быть персонами; они становятся воспоминанием... Так что я поважнее всех тех, кто покоится там, глядя в крышку гроба и сложив руки на груди.
— Ладно, Браулио, давай обещанный сыр и вино. Хватит кормить нас заупокойными речами. Тем более что Мануэль не расположен сегодня к мрачным беседам.
— Ну что ж, хватит так хватит... И без того яснее ясного, что это прописная истина. У нас, людей, всегда недовольный, мрачный вид, потому что мы от рождения знаем, едва, так сказать, оторвавшись от материнской пуповины, что окончим свои дни в могиле. Не знай мы этого заранее, мы выглядели бы гораздо веселее и не предавались грустным мыслям по ночам. Взгляните на животных: они безмятежны и резвы, потому что им невдомек, какой конец их ждет. А мы, люди, с самого раннего утра до поздней ночи, пока не уснем, даже в лучшие мгновения своей жизни — вы меня понимаете? — всегда думаем об одном и том же, пусть даже мимолетно. Не раз, глядя на цветущую, соблазнительную девушку, я вдруг представлял, как однажды, задушенная смертью, ее красота увянет, оставив после себя лишь легкое воспоминание.
— Интересно, что думают женщины по этому поводу?
— Откуда мне знать, Мануэль? Они сделаны совсем из другого теста.
Под навесом погребка стоял низенький стол с кувшином вина и четвертью золотисто-зеленого сыра, сквозь сверкающие поры которого сочилось масло.
— Ты подлый обманщик, Браулио!
— Это почему же, сеньор коновал?
— Ты сказал, что захотел выпить вина и поесть сыра, когда увидел нас, а стол-то уже накрыт.
— ...Есть немного, дон Лотарио. Иногда меня слегка заносит, и я сам не знаю, что говорю. Но главное, мне не терпелось пообщаться с кем-нибудь и найти подходящих сотрапезников. А тут вдруг вижу, вы идете, да так кстати, лучше не придумаешь. Я быстренько выскочил на улицу, спрятался за машину и стал призывать вас к объединению.
— Хитрая ты бестия!
— А еще мне не терпелось сегодня почесать языком в свое удовольствие.
— Ясно. Но прежде чем ты дашь волю своему языку, давайте отдадим должное вину и сыру, при виде которого у меня текут слюнки.
— Ну что ж! За дело, дон Лотарио! И пусть наша болтовня и звон стаканов будут созвучны!
— Такое под стать лишь тому, кто здорово напьется.
— Прошу без намеков, дон Лотарио. Пьяница болтает всякий вздор, а мое красноречие звучит как музыка.
— Тот, кто говорит красивые слова, не подкрепляя их аргументами, уже не философ.
— Да будет вам известно, дон Лотарио, аргументы — это всего-навсего слова к музыке, которыми пользуется философ, чтобы не прослыть пустомелей.
Довольный Плиний, не склонный вмешиваться в беседу, поглядывал на друзей, улыбаясь краешками губ.
— Теперь ты понимаешь, Мануэль, как проводит день Браулио?
— Понимаю, понимаю.
— В душевных излияниях, досточтимые маэстро. Все мы испытываем в этом потребность. Но пока ядовитые умы копят в себе желчь, мы, избранные, достигаем умственных вершин. Итак, сеньоры, выпьем вина и закусим сыром.
Он поднял кувшин, обнес им справа налево всех по очереди, а затем, описав в воздухе круг, воскликнул, посмотрев на Плиний и дона Лотарио горящими глазами, в которых отражался отсвет заходящего солнца:
— Ваше здоровье!
Браулио взял нож и отрезал три ломтя сыра толщиной в большой палец. Сквозь дырочки сыра соблазнительно сочилось золотисто-зеленое масло, так и подбивая слизнуть его. Браулио вкушал сыр, закрыв от наслаждения глаза, ветеринар — полузакрыв, а Плиний — широко раскрыв, но со смыслом.
— Ну как? — спросил Браулио, по краям губ которого лоснился жир.
— Вы правы, преподобный сеньор Сократ, сыр отменный!
— Спасибо вам, досточтимый сеньор философ!
— Если бы детей вскармливали только оливковым маслом и молоком, — неожиданно изрек Браулио, — на свете не было бы столько дураков. Ничто так пагубно не действует на людей, как гаспачо[6], табак и нейлон.
Солнце цвета шелковистого кокона, низко склонясь, уже целовало верхушки крыш. А трое друзей все еще продолжали наслаждаться, вкушая сыр.
— Если вдуматься хорошенько, Мануэль, — заговорил Браулио, когда от него этого меньше всего ожидали, — то обе проблемы, обрушившиеся на тебя нынешней осенью, станут исторической вехой на твоем длинном жизненном пути... Любая проблема, какой бы значительной или досадной она ни была, со временем вспоминается с удовольствием и становится предметом разговора. Человеку нравится рассказывать о том, что произошло с ним когда-то, даже если воспоминания эти неприятны ему. То, что происходит каждый день, каждый час, быстро забывается. Запоминаешь лишь то, что заслуживает внимания, будь то радости или печали. Например, свидание с любимой всегда доставляет удовольствие, но еще приятнее вспоминать потом, как она себя вела, какие у нее были волосы, как она стояла перед зеркалом... Точно так же смерть дорогого тебе человека причиняет боль, но...
— Снова ты заговорил о смерти, — перебил его дон Лотарио.
— Уж лучше говорить о смерти, чем о блохах или дезодорантах. Так вот, о любой проблеме, какой бы неразрешимой она ни казалась в свое время, впоследствии вспоминаешь с удовольствием. И то, что сеньор губернатор провинции запретил тебе, Мануэль, явно из ревности или по доносу своих лизоблюдов заниматься делами, выходящими за рамки муниципальных, хотя ты лучший сыщик во всей Испании, — нелепое недоразумение, которое принесет тебе еще больше славы, как только ты займешься очередным криминальным делом... Дураков, которые считают себя умнее всех, развелось на свете больше, чем фасоли. Подумаешь, какой-то провинциальной шишке не по душе пришлось, что о тебе так часто пишут в газетах, книгах и считают лучшим детективом в Ламанче! Да этот губернатор, как, впрочем, и все остальные, долго не продержится. Политики словно пух одуванчика — однажды утром их сдует, как бы крепко они ни держались... А ты по-прежнему останешься: умный, добрый, чуткий к людям, презирающий человеческую неблагодарность. Умный и добрый, Мануэль, всегда одерживает верх над хитрыми, чтобы не сказать дураками — тебе ведь известна моя теория относительно того, что хитрость лишь блестящий способ прикрывать свою тупость, — потому что умный смотрит на людей со своей колокольни, знает цену каждому человеку, каждой мысли. Наконец, им руководит здравый смысл, если, конечно, здравый смысл еще существует в этом мире... Да, Мануэль, ты, бесспорно, лучший сыщик во всей Испании! И смешно твои действия ограничивать сугубо охранительными делами: штрафовать водителей машин, разнимать уличные драки, сопровождать процессии. Никто не виноват в том, что твое звание находится в таком противоречии с твоими умственными способностями. Но я уверен: скоро справедливость восторжествует, и, к великому нашему ликованию, ты, несмотря на свою консисторскую униформу, раскроешь преступление, которое не смогут раскрыть твои коллеги, будь они хоть из самой международной полиции или как ее еще там называют.