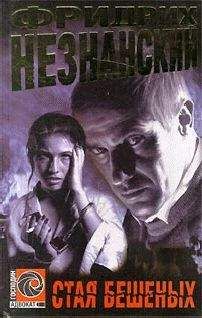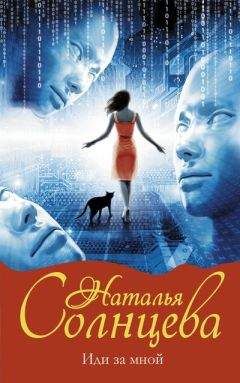– Чего вы меня подлавливаете? Когда в доме появился пистолет, я попробовала из него стрелять в сарае. Я же говорю, грешна любопытством. Да и совершенно несложно попасть с трех шагов в спящего человека.
– А потом вы протерли оружие и выбросили его?
– Да. А вы хотели, чтобы я сразу побежала сдаваться? Но я действительно не экзальтированная дамочка из сентиментальных романов. Было много крови, я побежала в ванную, мыла руки, а заодно подставила под струю пистолет. Обычная женская брезгливость. Я тогда ни о чем не думала. Но потом все-таки решила оружие выбросить. – Ада замолчала, снова подошла к окну, посмотрела за занавеску. – Логики-то нет. Если бы я хотела скрыть следы, зачем бы я выкидывала пистолет на даче?
– Еще не встречал ни одного преступления с железной логикой, всегда какая-то доля абсурда присутствует. Ну а после вы позвонили дочери и в милицию? Кому раньше?
– Скрывать не имело смысла. Я вышла на кухню, охранник, представьте себе, спал, – Ада захохотала. – Честное слово, с открытыми глазами. Я думала раньше, что такое только в сказках бывает. Я смеялась от души. Не поверите… Ну а потом – звонки…
– Что вы сказали дочери по телефону?
– Ну уж только не правду, обычные фразы – приезжай срочно, нужна твоя помощь.
– Значит, Зоя только здесь все узнала? – Этот последний и, в общем-то, единственный удар Турецкий приготовил Кобриной напоследок. – А зачем же вы, Аделаида Ивановна, всю ночь звонили дочери? В какую логику вписать, что вы не отрывались от телефона? Вы это делали между занятиями любовью и убийством? Насыщенная ночка получилась, ничего не скажешь.
Ада задохнулась от гнева. Казалось, вся комната полыхнула пожаром, огонь выплескивался из зрачков женщины и разлетался в поисках кислорода. Становилось нестерпимо жарко. Турецкий встал:
– Вам еще придется, Ада, рассказать свою жизнь до мелочей, всю подноготную, без утайки. Только не торопитесь с мемуарами. Это опасно.
Женщина молчала. Турецкий вышел из комнаты, и тут же в дверь, как тень, скользнул дежурный следователь.
Спальня располагалась рядом с комнатой, в которой Александр беседовал с Адой. Постель, где убили депутата Кобрина, никто не убирал – кровавые пятна растеклись по подушке, простыне и пододеяльнику. Можно было подумать, что здесь приносили в жертву какое-то гигантское животное. Турецкий никогда не уставал удивляться – сколько же крови содержится в теле обычного человека. Кровью были заляпаны стены, окно, пол, потолок, цветы в горшках. Большая бурая клякса засохла на экране телевизора.
Начальство изоляторов временного содержания относится к защитникам своих подопечных с неприязнью не меньшей, а может быть, и большей, чем к самим подследственным.
Несколько десятков заключенных приходится каждый день выводить из камер для встреч с адвокатом, что нарушает и без того неспокойный ритм жизни тюрьмы. Кроме того, адвокаты то и дело норовят против чего-нибудь протестовать, пишут жалобы, таскают в прокуратуру и суд – кому это понравится.
Но Гордеев пользовался у начальника женской тюрьмы некоторыми довольно внушительными льготами. Дело в том, что Юрий Петрович недавно помог полковнику Сорокину выиграть одно весьма щекотливое дело. Сорокин, будучи в сильном подпитии, возвращаясь домой, бросил почему-то свою машину на вокзале и сел в электричку. В этой электричке полковник начал безобразным образом кадриться к молоденьким пэтэушницам, при этом, как было потом записано в милицейском протоколе, «обнажая свои половые органы».
– Да я им просто намекал, что у меня все в порядке, – скромно жаловался потом адвокату полковник.
Гордеев ухитрился спустить дело на тормозах, безо всякого судебного разбирательства, за что и имел теперь неограниченный доступ к своим подзащитным и, разумеется, к самому полковнику.
Сорокин справился о женщинах, содержавшихся в одной камере с Ириной, и радостно сообщил, что действительно сидела с ней вместе там некая цыганка по фамилии Романова, но была вчера выпущена на свободу под подписку о невыезде.
– Адрес! – взмолился Гордеев.
– Не могу, – строго ответствовал Сорокин. – Секрет, сам знаешь. Улица Вавилова, дом пять, квартира сорок четыре.
Гордеев пожурил Сорокина за то, что он плохо контролирует подведомственное ему учреждение, и помчался на улицу Вавилова.
Телефон Руфата уже был введен в память его телефона, поэтому он набирал его механически и периодически раза четыре на дню.
Но на этот раз трубка не ответила долгими гудками, а спросила мужским голосом:
– Да?
– Алло! – заторопился Гордеев, не веря, что наконец нашел возлюбленного Пастуховой. – Я ищу Руфата!
– Да. Это я.
– Ох, слава Богу! Меня зовут Юрий Петрович Гордеев, я защитник Ирины.
– Кто, простите?
– Защитник. Адвокат.
– Она что, со мной судится? – удивился голос.
– Да нет! – вспомнил Гордеев. – Вы же не в курсе. Ирина под следствием. Она убила человека.
В трубке раздались какие-то странные звуки, и все смолкло.
– Алло! Алло! – закричал Гордеев. Трубка молчала.
В обморок он там упал, что ли?!
– Простите, – наконец отозвался голос. – Это у меня кот… Так что вы говорите?
– Ирина убила человека и находится под следствием.
– Она это может, – вдруг спокойно отреагировал Руфат.
– Дело в том, что несколько свидетелей показали, будто бы это вас она убила.
– И правильно показали. Она меня убила. Но не до конца. Я выжил, как видите… то есть слышите.
– Понимаете, мне необходимы ваши показания, чтобы защитить Ирину.
– Какие показания?
– Да простые – что вы живы и здоровы.
– А кто вам сказал, что я жив и здоров? Я ж вам только что объяснил, что она меня убила.
– Простите, Руфат, я не шучу, тут дело серьезное – ей грозит большой срок.
– Так ей и надо.
– Значит, вы отказываетесь помочь ей?
– Да. Отказываюсь.
– Извините.
Гордеев положил трубку. Вот так-так.
Двенадцатиэтажный дом на улице Вавилова Гордеев нашел легко, с трудом припарковал машину у подъезда и уже собирался искать нужный подъезд, как сам же себя и остановил.
Стоп. Что это я делаю? Это меня уже понесло. Я ж не сыщик, в конце концов, надо составить ходатайство по всей форме, пусть разбирается Чекмачев. Что я собираюсь спросить у этой черноглазой Романовой: «Простите, вы правда собирались помочь умереть Пастуховой?» Нет, меня точно заносит.
Но что-то все же мешало Гордееву тронуть машину и укатиться от дома. Он понимал, что Чекмачев ни в чем разбираться не станет. Чекмачеву нужно было держать Ирину в заключении. Зачем? За что?
И снова он задал, теперь уже себе, тот же вопрос, что задавал недавно Ирине: с чего все началось? Где логика? Почему кто-то наваливается на несчастную женщину, словно пытается сжить ее со свету?
Не было ответа.
Гордеев думал, что сможет расспросить Руфата, но тот оказался или подонком, или обиженным до смерти слабаком. Нет, Руфат не поможет.
А кто поможет?
Господи, был бы хоть один свидетель!
Стоп! Ирина говорила, что какая-то старуха кричала ей из окна. Значит, могла видеть и само убийство. Если это было убийство…
Зазвонил телефон.
Гордеев нажал кнопку и услышал усталый голос Турецкого:
– Вам повезло больше, Юрий Петрович, – сказал без предисловий «важняк». – Вы везунчик.
– В смысле?
– В том смысле, что вас не убили, а Кобрина-таки убили.
Теперь стояла, казалось бы, очень простая задачка – весь этот ворох материалов, весь этот многотомный следственный роман, однозначно уличающий Ирину Алексеевну Пастухову в преднамеренном убийстве, свести к простому выводу: невиновна.
Гордеев понимал, что в московском суде любой инстанции его аргументы пролетят, как фанера над Парижем. При зыбкости своих доводов он мог надеяться только на одно – на здравый смысл и сочувствие суда. Знал он и общеизвестную истину – суды чаще всего работают на обвинение, защитнику выиграть дело почти не удается. Но он надеялся на настоящий суд, на суд присяжных. В Москве таких судов не было, поэтому теперь перед Гордеевым стояла непростая задачка перетащить судебное разбирательство в Подмосковье.
Уж какие он там рычаги дергал, на какие кнопки нажимал, кому наносил визиты – это адвокатская тайна.
Но ему удалось. Поскольку городские суды были перегружены, а областные недогружены, судебное начальство поручило слушание дела Мособлсуду.
Ах, кто из настоящих защитников не мечтает о суде присяжных! Кто в самых радужных мечтах не представлял себя пламенным оратором перед двенадцатью внимательными слушателями, кто мысленно не играл на самых высоких человеческих чувствах, вызывающих слезы умиления или гомерический хохот зала. Кто не знал сакраментальную фразу: «Господа присяжные заседатели! Лед тронулся!», правда, звучавшую когда-то сатирически, а теперь вполне судьбоносно.